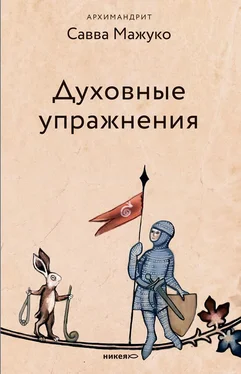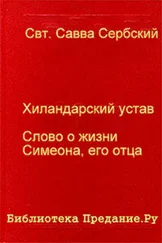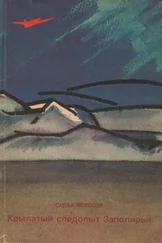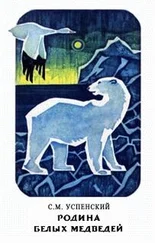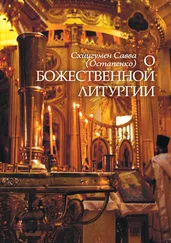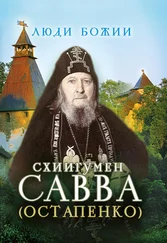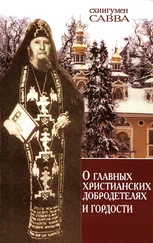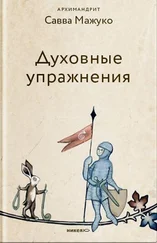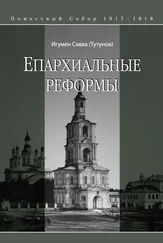Изобретателем морали считают Цицерона. Точнее, он придумал слово. Надо было как-то перевести на латынь греческий термин ethos, означавший «в отношении характера, стиля жизни, поведения, нрава». Так в цицероновском трактате «О судьбе» впервые появляется свежеиспеченное слово moralis, которому предстояло проделать долгий путь в истории европейской мысли, приобретая и теряя на этом пути разные значения и контексты.
Для советского школьника это слово чаще всего означало некий урок, вывод, как в басне Михалкова:
Мораль сей басни такова:
Иной ярлык сильнее льва!
Кроме популярного значения, этот термин имел и свою особую эмоциональную окраску: мораль — это нечто скучное, надоедливое, назойливое, избитое и затасканное. В юности часто слышал, а иногда и сам говорил: «Не читай мне морали». Не будет преувеличением сказать, что нормальные люди вообще это слово не любили и не любят, и не только потому, что оно навевает зевоту и образы старых дев.
Люди порой склонны мстить словам за то, что они не в состоянии передать то значительное, на которое должны указывать. Это значительное настолько велико, что, какое бы слово или образ вы ни взяли, каждое будет не впору и очень быстро «засахарится», станет помехой, постылым посредником. Так случилось со словами «любовь», «добродетель», «благочестие», «дружба», «нравственность» и многими другими. Любое из них указывает на важнейший, жизненно значимый для человека опыт, но из-за частого и неверного употребления слова становятся приторными, лживыми. И без них сложно, и с ними противно — вот мы и мстим словам за наши личные промахи.
Очень часто «мораль» употребляется как синоним слов «этика» или «нравственность», и это вполне корректно. Однако я имею полное право на некое авторское своеволие, поэтому позволю себе нагрузить эти термины разным значением. Нравственность — это закон добра и доброты, который естественно присущ каждому человеку. Мораль — это нравственность, только уже не в личном, а в ее общественном измерении, нравственность человеческого общества, единого общечеловеческого организма. Нравственность — личное измерение морали, мораль — общественное измерение нравственности. Этика — философская рефлексия по поводу морали и нравственности.
Для меня мораль и нравственность — это пространство бессознательных этических реакций человека и общества. Когда эти реакции осознаются, рефлексируются, отражаются в сознании, они становятся этикой. Этика — это мораль и нравственность, отраженная в области сознания. Этика — это мораль и нравственность, ставшие предметом мысли, обобщения, анализа.
— Ну вот! Начались «морали»!
— Куда же без них?
Это сильное и, возможно, не очень корректное упрощение, но без него никак нельзя, потому что оно имеет отношение к жизни, и вот с какой стороны.
Мораль — это нравственный воздух общества, атмосфера, в которой мы живем и движемся. Мы не просто «дышим» моралью, но и мораль «дышит» нами, она ставит границы, задает характер поступков, допустимых реакций и общественных навыков. При этом только единицы имеют желание изучать этот «воздух», подвергать сомнению его границы, сопротивляться ему, влиять на него, освежать атмосферу.
Воздух морали изменчив, и я хорошо помню время, когда дышалось по-другому. Атмосфера, в которой прошло мое детство, — это кислород советской морали. Лучшим описанием химического состава, которым мы дышали, была песня, озвученная бодрым голосом Толкуновой:
Жила к труду привычная
Девчоночка фабричная,
Росла, как придорожная трава.
На злобу не ответная,
На доброту приветная,
Перед людьми и совестью права!
Люди, которые пели такие песни, больше всего ценили правду и справедливость, поэтому честность была одной из высших добродетелей. Это были люди идейные, но при этом — люди труда. Они действительно крепко трудились, и у меня перед глазами их честные рабочие руки. Как-то наша соседка рассказывала моей маме, как забраковала жениха:
— У него руки, как у девчонки, белые, гладкие — аж противно!
Человека оценивали по рукам! Причем жили не по заветам ленинской морали, она была чем-то абстрактным, жили так, чтобы было по-людски — вот то самое слово!
Перед людьми и совестью права.
Давно замечено, что русские люди не любят читать юридические документы. Это пытка для рядового человека! Нам ближе и понятнее решать вопросы по-людски , а это и есть этика естественного закона, написанного в сердце, о которой говорил апостол Павел в Послании к Римлянам, закона, который говорит голосом совести — к ней советский человек и апеллировал. И что самое удивительное, к ней апеллирует и Христос, когда описывает Страшный суд в знаменитой 25-й главе Евангелия от Матфея.
Читать дальше