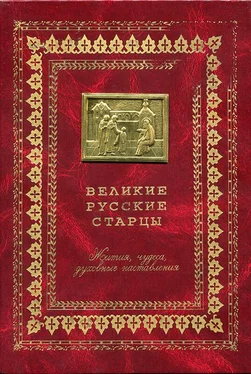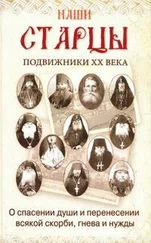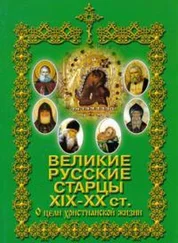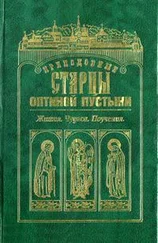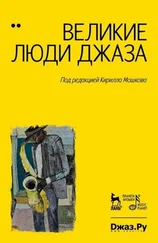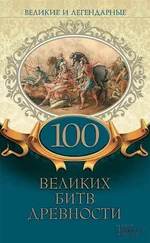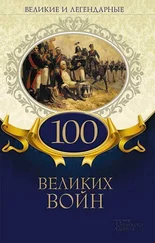Схиархимандрит Серафим (Тяпочкин)
(1894–1982)
Отец Серафим (Тяпочкин) более двадцати лет был духовным чадом старца Геннадия — их приходы были расположены недалеко друг от друга, старцы довольно часто виделись друг с другом, и родство душ облегчало им тяготы пастырского служения.
До принятия монашества отец Димитрий (мирское имя старца Серафима) служил в разных храмах, и ему в полной мере пришлось пройти весь крестный путь русского священства — закрытие храмов, переход с места на место, пребывание в сталинских лагерях.
Когда старца много позже спросили: «Батюшка, били ли вас в лагере?» — он кротко ответил: «Чем я лучше других? Что всем было, то и мне. Я рад, что Господь сподобил меня пострадать вместе с моим народом и потерпеть сполна все скорби, которые не единожды выпадали на долю православных. Всю свою жизнь я благодарен Богу, что никогда не оставался в стороне от трудностей тех лет… Горе и лишения, которые происходят с нами, надо принимать как милость от Бога».
В 1960 году отец Димитрий принял монашеский постриг с именем Серафим (преподобного Серафима Саровского старец с детства считал своим небесным покровителем).
С 14 октября 1961 года и до конца жизни отец Серафим был настоятелем Никольского храма в селе Ракитном Белгородской области. Он принял храм в полной разрухе, с разбитыми окнами, с прогнившим полом. В алтаре стены были покрыты инеем, во время службы шел снег. В первые дни никто не приходил на богослужение, но службы шли ежедневно, хотя в храме был только старец Серафим и его келейница мать Иоасафа.

Когда келейница замерзала, старец отпускал ее погреться, а сам оставался на молитве в храме. Для него уже не имело значения — тепло или холодно в храме. Он везде ощущал силу Божиего присутствия, заступления и помощи. Главное было — молитва.
Постепенно Господь послал старцу помощников и благотворителей, храм стал ремонтироваться и украшаться. На службу стало приходить все больше молящихся, вокруг старца стали собираться люди.
«Как-то в храме во время ремонта работали строители, люди, совершенно далекие от веры. Не очень-то утруждая себя, они в обед подвыпили, хорошо закусили и, уже разомлевшие, готовились к послеобеденному отдыху. С приближением отца Серафима они запанибратски проронили: «Ну что, отец?» Наблюдая за этим, я внутренне сжался, подумал: «Как они себе такое позволяют? Ну, сейчас он им покажет!» Батюшка остановился, внимательно посмотрел на всех. Потом стал подходить к каждому, обнимал, обхватывал ладонями голову, долго глядел в глаза и нежно целовал в обе щеки. Никакая грубость, никакое пренебрежение не могли устоять перед батюшкиной любовью! Ошеломленные, притихшие, вмиг протрезвевшие строители тут же взялись за дело», — вспоминал иеродиакон Николай (Трубчанинов).
Слава о старце шла по всей России. Пройдя круги ада в сталинских лагерях, он не утратил любви, сумел сохранить ее в своем сердце и к друзьям, и к врагам. А Господь, видя это, приумножил ее во сто крат. Со всех концов страны стекались к нему страждущие, жаждущие утешения, совета и молитвы. В келии и возле храма, где служил отец Серафим, каждый день можно было видеть десятки и даже сотни людей. Были здесь архиереи и священники, иноки и инокини, студенты Духовных школ и писатели, преподаватели вузов и военные, но больше всего было простых, известных одному только Богу мирян. Всех с любовью принимал батюшка Серафим. Никто не оставался неутешенным.
Все годы пастырского служения старец Серафим пребывал в стесненных обстоятельствах — он не мог принять всех, кто нуждался в его духовном окормлении. Эти обстоятельства порождались запретами уполномоченных Совета по делам религий, которых раздражало каждодневное паломничество в сельский храм. Своим духовным чадам старец все объяснял своей физической немощью.
Из бесед старца можно почувствовать, как он переживал сложившуюся ситуацию. Отец Серафим говорил: «Дети мои духовные! Отцовско-пастырским долгом считаю необходимым оповестить вас, что по состоянию своего здоровья и по сложившимся обстоятельствам не могу принимать вас у себя на дому и вести беседы. За мной остается духовное руководство лишь в храме, состоящее в молитвах. Болящие, страждущие и скорбящие! Вы обращаетесь ко мне, прося моих молитв. „Всецелебная моя сила — Христос!“ — восклицал в дни своей земной жизни святой великомученик Пантелеимон и я, недостойный, — тоже.
Читать дальше