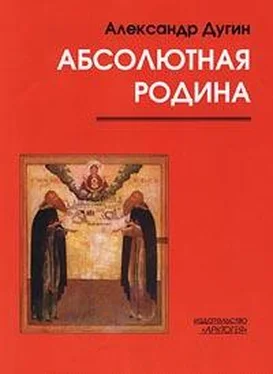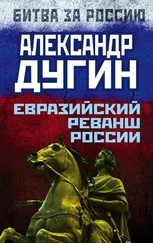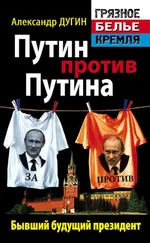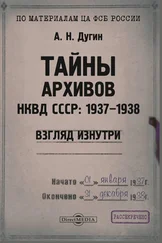"Говорение на языках" является эсхатологическим завершением Вавилонского смешения, преодоление множественности наций в единстве Соборной Церкви. В некотором смысле, это тождественно реставрации Изначального Языка, бывшего некогда единым для всего человечества. Эзотеризм называет его "языком птиц" или "языком ангелов". В данном контексте снова следует упомянуть труды профессора Германа Вирта, который через исследования «палеоэпиграфики», древнейших форм письменности, рисунков и наскальных изображений пришел к реставрации общей структуры Изначального Языка, связанного со Священным Годом и естественным строем космоса. Вирт не обращался прямо к христианской традиции, но при сопоставлении его открытий со структурой православной литургии, символики и догматов поражает практически полное совпадение модели Изначального Языка, предложенной Виртом, с логикой христианского учения, ритмом праздников, провиденциальной семантикой и фонетикой имен главных персонажей евангельского повествования. См. также А.Дугин "Гиперборейская теория", указ. соч.
Именно на этом соображении была основана традиционная христианская сакральная география, видящая историю народов и государств в оптике одновременно космического и церковного домостроительства. Это также фундамент особой христианской сотериологической этнологии. К сожалению, полноценное изложение данных аспектов православной традиции нигде в законченной форме не встречается, но на основании внимательного исследования православного предания, житийных циклов и святоотеческого наследия нетрудно выявить главные параметры этой эзотерической православной дисциплины.
Такое почитание нескольких святых связано с различными факторами: поминание разных людей, имевших одно и то же имя, наложение друг на друга житийных традиций разных поместных церквей и т. д.
См. "Слово на вочеловечение Господа нашего Исуса Христа", указ. соч.
См. по этому поводу: Николаев "В поисках за Божеством", СПб, 1910.
По этому поводу мы достаточно подробно высказались в Части II главы 10–13.
"И виде небо отверсто, и сходящ нань сосуд некий яко плащаницу велию, по четырем краем привязан, и низу спущаемь на землю. В нем же бяху вся четвероногая земли и зверие и гади и птицы небесныя: И бысть глас к нему, востав, Петре, заколи и яждь". Деяния апостолов, X, 11–12.
Это разделение архетипически представлено также в сюжете с Марфой и ее сестрой Марией Магдалиной, где Марфа олицетворяет действие (экзотеризм), а Мария — созерцание (эзотеризм). Такое же деление существует и в монашеском делании: есть путь прямого подвижничества, чистой аскезы, путь внешнего делания, а есть путь «исихазма», «созерцания», "молитвы Исусовой", внутреннего преображения. История Афона изобилует типичными рассказами о встрече обычных подвижников-ревнителей со старцами-исихастами и об удивлении первых относительно необычности пути "сердечного делания" вторых.
"Рече же к нему Господь, иди, яко сосуд избран мне есть сей, пронести имя мое пред языки и царми и сынми Израилевыми." Деяния апостолов IX, 15. Обратите внимание, что в этом обращении Бога к христианину Анании, понуждающем его идти к Савлу, «языки» поставлены на первое место, а "сыны Израилевы" на последнее.
Фигура Луки регулярно появляется во всех вопросах, связанных с противостоянием иудеохристианских и собственно христианских (православных) тенденций в Церкви. Так, он играл важнейшую роль в ходе иконоборческой ереси, так как его апостольский авторитет был одним из главных аргументов защитников иконописи. Именно Луке, по преданию, принадлежит первая рукотворная историческая икона — образ Богоматери. Иконоборчество было типичным проявлением креационистского духа в христианстве, коренящегося в строгом и последовательном иудаизме. Идея изображения Бога была для иудеохристиан синонимична «язычеству», «эллинству» и «манифестационизму». Победа защитников иконописи, особенно ярко выраженная в Восточной Церкви, была догматическим закреплением эзотерического измерения Православия, и не случайно развитие иконописи практически неотделимо от развития исихазма. См. Успенский Л.А. " Богословие иконы Православной Церкви", Москва, 1989
У многих православных авторов именно Иоанн выступает как образ эзотерической Церкви, а Петр — экзотерической. Иоанн Златоуст дает паре Иоанн-Петр очень интересную трактовку, утверждая, с одной стороны, духовное превосходство Иоанна над Петром, но объясняя тот факт, что именно Петру, а не Иоанну и не другим апостолам были вверены Спасителем ключи от Царства Небесного, общей кенотической ориентацией Бога, всегда избирающего неимущего, обделенного, грешного перед лицом богатого, счастливого, праведного! Однако в своем слове "О разбойнике" Иоанн Златоуст, следуя той же логике кенотической "предпочтительности малого", противопоставляет самому Петру "доброго разбойника", который, будучи уже совершенно ничтожным и невежественным при жизни, первым сподобился войти со Спасителем в рай.
Читать дальше