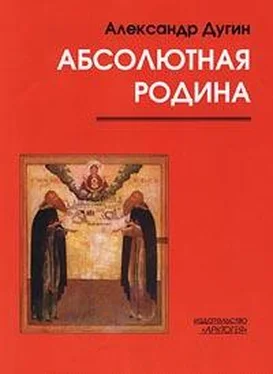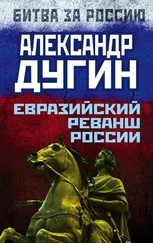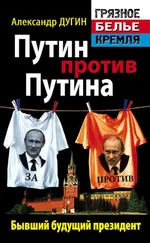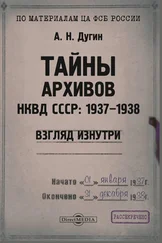"О церковной иерархии" цит. по Pseudo-Denys "Oeuvres completes", Paris, 1943
Соответственно, с необходимостью должны использоваться елей или миро. Подробнее см. главу 28.
Послание апостола Павла к Еврееям, главы V, VI и VII.
К Евр. VII, 3: "Без отца, без матери, без причта рода, ни начала днем, ни животу конца имея, уподоблен же Сыну Божию, пребывает священник выну."
С нашей точки зрения, это абсолютно верно, и более того, следует сделать из этого замечания Генона все логические выводы. Христианская традиция (даже если абстрагироваться от ее трансцендентных аспектов), вопреки своей исторической преемственности иудаизму, во всем своем строе, символизме, ритуалах и доктринах является более изначальной и древней, более первичной, нежели иудаизм, и даже весь авраамизм в целом. И неудивительно поэтому, что в структуре христианской сакральности так много прямых параллелей с Изначальной гиперборейской Традицией, следы которой можно отыскать во многих индоевропейских мифах и культах. Мельхиседек и чин его священства, его сакрального церковного института, есть полное возрождение древнейшей гиперборейской духовности, которое и во временном и в качественном аспектах превосходит авраамизм во всех его версиях. Но это слишком обширная тема, требующая основательного исследования сама по себе. См. также Guenon Rene "Le Roi du monde", Paris, 1927.
По-церковнославянски: "Ничтоже бо совершил закон". К Евреям, VII, 19.
К Евреям VII, 19: "привведение же есть лучшему упованию, имже приближаемся к Богу".
См. Guenon Rene "Le Roi du monde", указ. соч.
У зороастрийцев «ахурами» называются «боги», а «дэвами» — «демоны», а у индусов наоборот: «асуры» — «демоны», а «дэвы» — «боги».
Вообще Дева, Жена играет огромную роль в зороастризме, и особенно в качестве "небесной девы", "солнечной девы", предводительницы ангелов, «фраварти».
Об этом достаточно сказанно в частях II и III.
Сходным образом составлено и греческое слово «метафизика», означающее "то, что стоит выше физики (природы)", "то, что трансцендентно по отношению к физике".
Нетварная часть дается Святым Духом, который нисходит в момент крещения, открывая христианину перспективу личного обожения — отныне его плоть может стать евхаристическим телом Христа, его душа — евхаристической кровью Христа, его дух — Святым Духом. Ветхий Адам во святом крещении получает возможность стать Новым Адамом, не рожденным от праха, но сошедшим с небес.
В чем-то это сродни погружению в состояние после смерти, post mortem.
Что часто внешне выражается через определенные харизмы и, в первую очередь, в даре "различения духов".
Вообще сужение понятия «грех» до уровня моральной категории есть отступление от полноценной метафизики Православия, где оно относится, в первую очередь, к онтологическому аспекту существования. Есть два типа греха — первородный и смертный. Первородный грех — это общее качество послеадамического человечества, накладывающее на всех людей определенные онтологические ограничения. Такой грех упраздняется в момент святого крещения. После крещения тяготение к этой, уже преодоленной благодатью, форме существования, т. е. к состоянию Ветхого Адама, есть смертный грех так как он имплицитно ставит под сомнение действенность спасительной жертвы Сына Божьего и являет собой хулу на Святого Духа. Первородный грех проявляется в естественном тяготении человека к отходу от Завета с Богом, закона Божьего, внешнего по отношению к самому человеку. Смертный грех — это неестественное тяготение к отходу от внутреннего слияния с самим Богом (а не только с Заветом), что осуществляется в крещении. Именно поэтому путь христианской реализации есть гораздо более напряженная и драматическая духовная реальность, нежели формально схожие с ней инициатические методы других традиций — как «эллинских», так и «иудейских». В некотором смысле, каждый крещеный христианин может приобрести невероятно много, но может также и все потерять. При упразднении первородного греха онтологическое положение человечества не только безмерно улучшается, но и становится несравнимо более рискованным и метафизически опасным.
Даже на чисто внешнем уровне видно, что в самые тяжелые для Русской Церкви периоды именно женщины, крепче мужчин держащиеся ритуалов и обрядов, спасали положение, вопреки всему сохраняя верность духовным основам и каноническим принципам Традиции.
Читать дальше