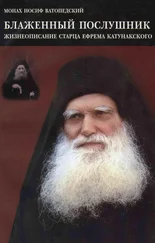Христианская средневековая педагогика обращена внутрь человека — этим она противоположна античной системе образования. Именно эта сторона привлекала к себе римлян в период упадка империи. Традиционное классическое образование стало ощущаться недостаточным. Разрушались государственные устои, разваливалась система управления, расстраивались финансы, рушилась мораль. Человек утрачивал привычные связи внутреннего и внешнего мира. Ему недоставало внутренней наполненности, и он становился учеником и адептом тайных мистических сект и культов.
Постепенно главным оппозиционным императорскому культу течением стало христианство. После безуспешной борьбы с ним, в 313 г., христианству был дарован статус официальной религии. Утверждение официальной Церкви обернулось впоследствии притеснениями язычников и иудеев.
Первоначально христианство полагало лишним учить детей мирским знаниям, ибо близко спасение людей всех возрастов — тех из них, кто этого и так заслуживает2. Но позднее, с расширением христианских общин и популяризацией движения, христиане оказались перед необходимостью открытия конфессиональных школ. Первоначально это были школы для тех, кто готовился к крещению (катехуменов). Туда поступали люди, уже получившие какое-то светское образование и потому не требовавшие обучения иным предметам, кроме необходимых для принятия таинства крещения, таинства христианского рождения. Обучение и воспитание в них было научением праведным поискам Бога и личностному взаимодействию с Ним. Школы катехуменов выработали ключевой для всего средневековья катехетический вопросо-ответный метод обучения (от греч. «катехео» — учить, наставлять устно, поучать, обучать, оглашать).
Став господствующей, христианская Церковь столкнулась с усиливавшейся в условиях кризиса античного мира необходимостью организации всего цикла обучения. На смену проблеме синтеза иудаизма и эллинства пришла проблема взаимоотношений христианского воспитательного комплекса со всем античным (греко-римским) образовательным комплексом. Может ли христианский учитель использовать в преподавании достижения античности? Нужны ли христианину наука, философия, литература, история, красноречие, если Истина явлена ему в Священном Писании? Что можно применять для его толкования, а что нельзя ни в коем случае? Таких и подобных этим вопросов было множество. Ответов тоже было немало, начиная с апологетов и Отцов Церкви3, и кончая Кассиодором, Григорием Великим и педагогами эпохи Каролингского возрождения. Ответы эти делятся на две группы: допускающие использование языческой классики в большей степени (как ступени в обучении и познании учеником мира) и в меньшей степени (как злейшего врага). Первое мы в большей мере встречаем у западных Отцов и в римско-католической Церкви, а второе — у поздних восточных Отцов, в сирийской Церкви и в греко-православном монашестве, которое в Византии более страдало от остатков язычества, чем католики в новых раннесредневековых государствах Западной Европы. Монашество имело в Греции рядом с собой живую традицию светского образования, опиравшегося на античные образы и достижения.
Христианская педагогика Отцов Церкви отвергает античный индивидуализм и своеволие, не отрицая индивидуальности. Упор делается не на внешнее в воспитаннике — будь то физическое развитие или умственные способности к риторике или литературе, науке или философии, а на внутреннее формирование духовной сущности на основе разума (познание человека, мира, Бога), веры (почитание Бога) и воли (служение Богу и ближнему) либо смирения.
В средневековой педагогической традиции эту внутреннюю работу рассматривают с позиции личности и ее, если можно так выразиться, моноструктуры, сводя все построение великолепного здания души (и человека как храма) к одному системообразующему ядру или принципу. Именно на соблюдение этого принципа (как бы он ни назывался) и должна быть прежде всего направлена энергия наставника. Такая нуклеарность построения человека — это облеченное в новые одежды в новых условиях, но зародившееся еще в античности атомарное рассмотрение индивида, подчиненного мирским или божественным нормам и взаимосвязям. Общинность семьи (семейного воспитания) и общинность средневековой корпорации (групповое обучение и воспитание) в своем коллективном обращении к Богу прорастали индивидуальными ростками человеческих душ молодых поколений, не мыслящих себя вне группы, но не мыслящих себя также и вне обращенности к Богу и активного диалога с Ним пусть наивно-младенческого. Средневековая традиция сохранила характерную черту древневосточного педагогического мировоззрения, рассматривавшего формирующегося человека как неразрывную и несамостоятельную (в конечных своих пределах и действиях) часть стройного иерархически организованного мироздания, но внесла в него самостоятельную волю и психологию индивида.
Читать дальше
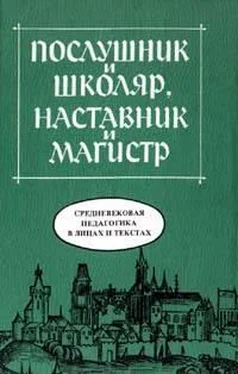
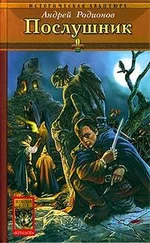


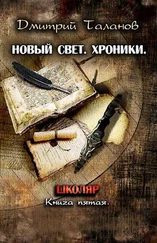


![Алекс Каменев - Послушник [litres с оптимизированной обложкой]](/books/413822/aleks-kamenev-poslushnik-litres-s-optimizirovannoj-thumb.webp)