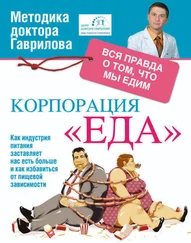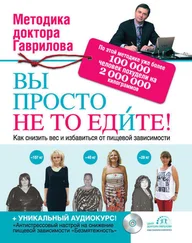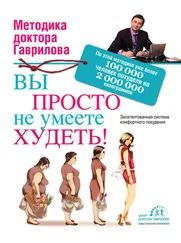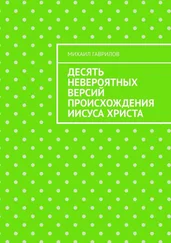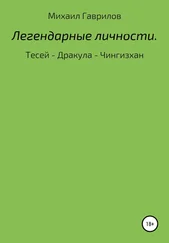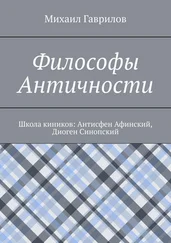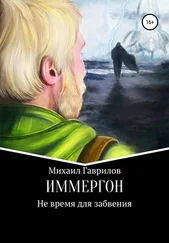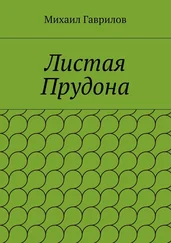Как можно относиться к Симеоновой «повести», как к историческому источнику, ясно уже из того, какою нам представляется личность автора. Ясно ведь, что все, что он «перетерпел» в России уже после изгнания Исидора, произошло не от «ревности к православию», а потому все, что он рассказывает об этой своей «верности» и о чужой «неверности» вряд ли может заслуживать доверия. Не лучше обстоит дело и с теми сведениями, которые относятся к прошлому, собственно, эпохе унии. [18] См. Е. Голубинский, История Русской Церкви, Период второй, московский, Вторая половина тома, Москва, 1900. Там, между прочим, читаем: «Симеон суздальский, бежавший от Исидора из Венеции вследствие ссоры своей с ним, в которой, как есть все основания подозревать, и сам был далеко не прав..» (См. ст. 443, прим. 1). См. ук. стаью Делекторского в Ж.М.НЛ. ал 1895 г., июль, стр. 143.
«Сказание Симеона не содержит в себе», пишет проф. Е. Голубинский: «сколько-нибудь обстоятельной истории собора, на что у Симеона вовсе не хватило бы-сведений и, по всей вероятности, вовсе не хватило бы авторских средств, но дает характер общей относительной достоверности, не совсем свободной от легендарности». [19] Ук. соч., Т. II, 1; ст. 201. 11
Не надо забывать, что Симеон не знал при том ни греческого, ни латинского, ни даже литовского языков, не был и не мог быть и членом Собора, а потому в заседаниях не участвовал. Судил обо всем лишь по слухам в своем окружении, — да и слухов этих, понятно, далеко не всегда понимал.
В его «повести» найдено не мало сведений явно вздорного характера: так, например, он свидетельствует, будто император греческий Иоанн скончался при возвращении домой, не доехав до дому, и что, при этом земля сама три раза выбрасывала его вон. В действительности, автор «повести» ничего не мог сообщить о кончине императора Иоанна Палеолога, который скончался через много лет-по возвращении на родину, а именно 31-ого октября 1448 г. Можно ясно представить себе, таким образом, чего может стоить такой «исторический источник», составленный, к тому же, невидимому, более чем через 16 лет после возвращения автора на родину и при, очевидно, совершенна изменившейся политической обстановке.
Из других «исторических источников», появившихся года 3–4 после «Повести», является, во-первых «Слово избранно от святых писаний, еже на латыню и сказание о составлении осмаго собора латынського и о извержении Сидора Прелестного и о постановлении в русской земли митрополитов, о сих же похвала благоверному великому князю Василию Васильевичу всея Руси».
Есть серьезные основания считать, что автором и этого сочинения был все тот же суздальский иеромонах Симеон. [20] Делекторский, Ук. соч., ст. 146. Правда, цитированный уже намн выше Zlegler, на 28 стр. своего труда, сомневается в этом, так как находимые им в "Слове" сербские обороты говорят, он считает, в значительней мере, против авторства Симеона. (Ук. «оч., ст. 2d).
Как и в прошлом сочинении, расточаются пышные похвалы «боговенчанному царю, великому князю Василию Васильевичу». В сочинении много добавлено по сравнению с тем, что было рассказано в «Повести» Симеона. Весьма подробно рассказывается об изгнании Исидора из Москвы, тогда как в первой повести Симеона (ок. 1458 г.) на судьбу Исидора едва лишь намекается. Видно, что еще около 1458 г. (приблизительное время написания «Повести» Симеона) положение Исидора и его дела вовсе еще не казалось совершенно безнадежным, чем и объясняется невидимому, непонятная небрежность вел. кн. Василия, так и не решившегося в самом начале сразу и решительно принять крутые меры, а, невидимому, способствовавшего побегу Исидора.
Цель «Слова избранна» совершенно ясна: эта цель, прежде всего, — оправдать автокефальность, независимость Русской Церкви от Греческой. «Флорентийская Уния», очевидно, далеко не с первой минуты, а спустя, приблизительно, несколько первых десятков лет после ее свершения, предстала пред политическим взором вел. кн. Василия Васильевича II именно с этой стороны. Появилось два новых, выгодных для свободы действий московского самодержавия факта. Первый — это заключение во Флоренции греками греховной унии с латинянами; второй — это клонящийся к гибели упадок Царяграда. Когда этот упадок стал окончательно ясным и совершенно определившимся (Падение Константинополя в 1453), то ясно стало и то, что именно нужно и полезно для Московского Царства. Нужна стать на место Византии, а для этого надо создать независимую от Константинопольского Патриарха Русскую Церковь, руководить которою будет сам государь: московская лесть всеми силами спешила, как можно раньше, назвать его «боговенчанным царем» — иногда еще до Иоанна Третьего. «Флорентийская Уния» тут во всех отношениях в высшей степени шла к делу. Во-первых не было ничего легче, как убедить малосведущего и доверчивого собеседника, что на Флорентийком Соборе греки оказались «предателями православия»; с другой стороны, становилось все легче убеждать московских людей в том, что «на Москве утвердилася православием Русская Земля христолюбивым Великим Князем Василеим Василиевичем».
Читать дальше