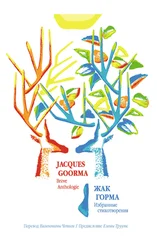Существование без сущности, субъект, лишенный сущности: мы изначально попадаем в область немыслимого. Таким образом — и это отсутствие fair play [4*] [4*] Честной игры (англ.).
, на мой взгляд, представляет самый большой порок этой философии [1] [1] Я прекрасно знаю, что понятие «сущность», как и все иные понятия метафизической лексики, было переосмыслено во всецело феноменологической перспективе. И действительно, если мы хотим называть вещи своими именами, мы должны сказать, что в феноменологическом экзистенциализме, восходящем к Хайдеггеру, присутствует глубокий самообман: он состоит в присвоении всей системы понятий, которыми мы обязаны великим метафизикам бытия и которые имеют смысл лишь для реалистического интеллекта, ищущего тайну сущего вне сознания, и использовании их в универсуме феноменальной мысли, в универсуме «явления, которое есть сущность» («L'Etre et le Neant», p. 12). Там они не обладают в действительности никаким значением, но из желания остаться метафизиками их продолжают использовать, перетолковывая их таким образом, чтобы они могли бесконечно умножать свои противоестественные значения. Подобного рода трансцендентальное искажение могло завершиться лишь извращенной метафизикой, а феноменология в ее экзистенциальной форме есть не что иное, как изначально исковерканная схоластика. Впрочем, именно это и составляет ее неоспоримый исторический интерес. Хотя бы в таком состоянии метафизика бытия и схоластика возвращаются в современную философию, или, вернее, они указывают ей на завершение определенного цикла. Отныне мы можем ожидать рождения нового философского цикла — во благо и во зло. И эта исковерканная схоластика, возможно, готовит почву для нового зарождения (по крайней мере там, где земля будет как следует вспахана) подлинной метафизики.
, — изначальное, прямое утверждение, что существование лишено сущности или исключает сущность, заменяется более продуманным и двойственным утверждением, что существование — Heidegger dixit [5*] [5*] Хайдеггер сказал (лат.) .
— предшествует сущности. Это утверждение двойственно, поскольку оно могло бы означать нечто истинное — а именно, что акт предшествует потенции, что моя сущность самим своим присутствием в мире обязана моему существованию и что ее интеллигибельность проистекает из Существования в чистом акте, — тогда как в реальности оно означает совсем иное: а именно, что существование ничего не актуализирует, что я существую, но являю собой ничто, что человек существует, но нет никакой человеческой природы.
Точно так же понятие «проект» [2] [2] «Я предстаю в одиночестве и в тоске перед уникальным и первичным проектом, составляющим мое бытие…» {J.-P. Sartre. L'Etre et le Neant, p. 77). «Когда я формирую себя в понимании возможного как моего возможного, необходимо, чтобы я признал его существование как цель моего проекта и чтобы я осознал его как себя самого, здесь, в ожидании моего будущего, отделенного от меня небытием» (ibid., p. 79).
служит двойственным заменителем понятия сущности, или основного качества (quiddite), а понятие ситуации — двойственным заменителем понятия объективной обусловленности, порождаемой причинами и природами, взаимодействующими в мире. Подобно тому как в метафизике Декарта понятие чистого Действия, чистой Действенности или чистой Свободы неявно заменяло собой немыслимое понятие Бога, не обладающего природой, в атеистическом экзистенциализме немыслимое понятие субъекта, лишенного природы, заменяется понятием чистого действия или чистой действенности в процессе выбора, короче говоря, чистой свободы. Свобода эта двойственна сама по себе и рушится изнутри, поскольку, требуя по видимости высшего свободного выбора, она в действительности требует лишь чистой спонтанности, неизбежно внушающей подозрение, что она — лишь внезапное извержение необходимости, спрятанной в глубине той самой природы, которую мнили изгнанной. Возможно, на все это намекал на несравненном языке, доставляющем удовольствие современной философии, критик, упрекавший доктрину г-на Сартра в возрождении радикал-социализма.
Заметим, что эта философия вовсе не так далека, как думает сам г-н Сартр, от философии тех «французских профессоров, которые к 1880 г. попытались создать светскую мораль» [3] [3] J.-P. Sartre. L'Existentialisme est un Humanisme, p. 34.
, упраздняя Бога и сохраняя буржуазную порядочность и кантовский декалог. Ибо если экзистенциализм полагает, что несуществование Бога мешает жить, если он заявляет, обнаруживая тем самым метафизическую проницательность, что человеческой природы нет, коль скоро нет созерцающего ее Бога, и утверждает, что упразднение Бога ведет к опустошению области интеллигибельного, то все же отправной пункт и тонкая пружина всех его начинаний — стремление доставить отвратительному человеческому вибриону, который упорно развивается и множится, возможность справиться с ситуацией в обезбоженном мире и освоиться с атеизмом. (Не сохраняя, конечно, буржуазную добропорядочность, а изыскивая средство не быть, принимая моральные категории г-на Сартра, ни «негодяем», ни «подлецом», что является еще одним, возможно наиболее экономным, способом самооправдания. И, конечно, не устанавливая по своему усмотрению, подобно картезианскому Богу, справедливое и несправедливое, а также объективную меру морального, поскольку таковой не существует, но придавая чему угодно моральную или даже героическую ценность, если в это достаточно полно вовлечена его свобода.) В этом и состоит неприкосновенная тайна, первоначальное решение и оздоровительная позиция экзистенциализма: любой ценой устроить дело так, чтобы атеизм оказался жизнеспособным. А если по случайному стечению обстоятельств это невозможно? Если случайно нельзя ни выйти из затруднения, ни устраниться? Этот вопрос даже не ставится, его старательно избегают и скрывают. Г-н Сартр имеет основания решительно объявлять себя оптимистом, оставляя христианам смысл трагического, — христианам и великим антихристианам. Не будем говорить о Паскале. В экзистенциализме нет ничего даже от величия Ницше. Это удивительное отречение от всего великого есть, возможно, то наиболее оригинальное и ценимое, что он приносит нашей эпохе.
Читать дальше