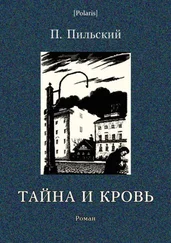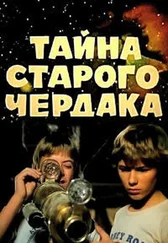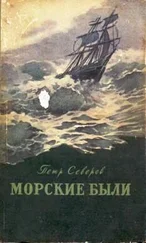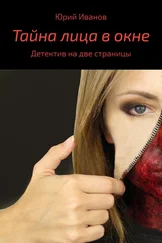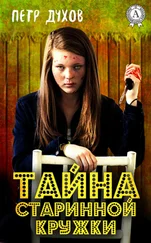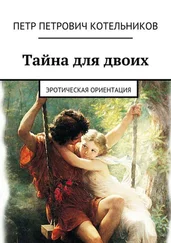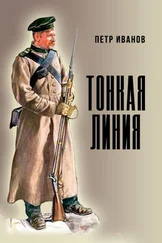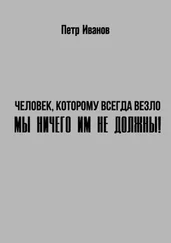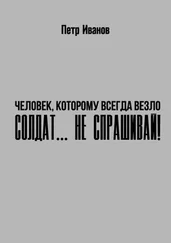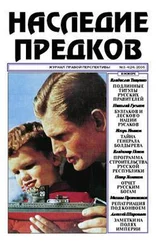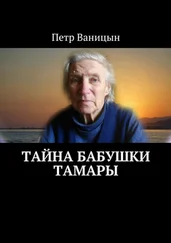Насколько духовно ничтожен Толстошеев, свидетельствует та же послушница, рассказывая, как Пелагея Ивановна приняла Толстошеева: перед приходом его она скрылась в чулан, а когда он вошел, высунула голову из двери и сказала: “борода у тебя лишь велика, а ума-то вовсе нет, хуже ты бабы”. Он так и засеменил; весь растерялся. “Что это, что это, ты, раба Божия”, — говорит. Больше ничего сказать-то не посмел, ничего не тронул и тотчас ушел. И после всегда Пелагею Ивановну бегал и боялся.
Вначале очерка мы сравнили Толстошеева с Хлестаковым. Сила Хлестакова не в нем самом. Его принимают за важное лицо, и он постепенно начинает возрастать в собственных глазах; ему начинает мерещиться, что он чуть ли не любимец государя. Таков и Толстошеев. Его навязчивая идея насколько нелепа, настолько и ограничена: отдай мне на попечение своих девушек. Но вот Толстошеева принимают (т. е. Дивеево, а не мельничные сестры), начинают за ним ухаживать. Не надо забывать, что вокруг него одни женщины, они всегда создают атмосферу обожания. Рассказы Толстошеева о старце, масса воспоминаний, которые он накопил — дают повод признавать его, как очень близкого к св. Серафиму человека. Невольно вырываются восклицания: ученик! любимый! Толстошеев принимает всё это к сердцу и вот с течением времени ему и самому начинает казаться, что он был любимым учеником св. Серафима, что теперь он несет тяжелый крест посмертного послушания старца — заботится о Серафимовых сиротах. Долгое время пребывания в этом духовно-миражном состоянии (а что это, как не настоящий мираж — послушник мужского монастыря во главе женской обители!) порождает в нем бредовые идеи, что Сам Бог даровал ему благодатные силы, что он постоянно чувствует всё новые и новые внушения от Бога. И наконец, что уже не святой Серафим, а он теперь возглавляет Дивеево. Он задумал, говорит летопись, себя поставить вместо св. Серафима и преданные ему сестры Дивеева зовутся уже не Серафимовыми, а Иоанновыми. При пострижении в схиму Толстошеев принимает имя Серафима — схигумен Серафим. Об этом свидетельствует в своих записках Бетлинг: “схимонаха Серафима не следует смешивать со старцем Серафимом Саровским: это хотя и одноименные, но совершенно разные личности”.
Книгу, где Толстошеев называет себя любимым и ближайшим учеником св. Серафима, он написал не тотчас, а через двадцать лет, когда окончательно созрел в нем хлестаковский мираж.
До сих пор мы говорили о самой личности Толстошеева, но мы еще ничего не сказали о том, как выполнил он дело, пославшего его, т. е. уничтожил мельничную Серафимову обитель.
До 1842 года, то есть девять лет после кончины св. Серафима, Мельничная обитель жила совершенно самостоятельной жизнью, как и завещал это св. Серафим. Толстошеев, распоряжаясь всем в Казанской (Дивеевской) общине, сюда не простирал своей руки. Хотя и хотел он иногда вмешаться, но все Серафимовские сестры (сироты), помня завет старца: никого не допускать в управление обителью, единогласно заявили послушнику Ивану свое несогласие на его попечительство у них.
Убожество, бедность, плохая пища и глубокое горе в потере своего отца, собеседника Царицы Небесной, составляли отличительные черты обители. Одним утешением была молитва перед образом Божией Матери “Радость всех радостей” о. Серафима и взаимная любовь между сестрами. Вечером за работой при свете лучины сестры вспоминали счастливые годы жизни с батюшкой, его наставления, ласку, заветы…
Чтобы разрушить мельничную обитель, необходима была сосредоточенная злоба, между тем Толстошеев, властвуя в Казанской общине, первые годы был удовлетворен; вокруг него собрался целый сонм поклонниц, вроде как бы его духовного стада, он поучал их и наслаждался своим престижем; боялся, помня еще, что он только простой послушник Саровский, испортить окружавшую его атмосферу славословия. Серафимовы сестры не признавали его и он оставлял их в покое, чтобы сберечь и свой покой начальника, в душе еще не вполне уверовавшего в правду своего начальствования. Поэтому он и юродивую Пелагею Ивановну, разоблачавшую его, боялся и избегал. Но прошло десять лет (летопись при изображении отношений между Толстошеевым и Серафимовыми сестрами мало принимает во внимание это целое десятилетие относительно безразличия между обеими сторонами) и вот Толстошеев верует в самого себя, как и все в Казанской общине (за немногими исключениями) в него. Конечно, этому больше всего способствует Петербург, принявший Толстошеева даже не как ученика святого, а как наследника святости св. Серафима, как некую великую самостоятельную величину*. Он уже без всякого стеснения везде рекомендует себя, как ближайший и любимейший ученик св. Серафима. Конечно, Серафимовы сестры при случае раскрывают правду отношений к нему святого. За это Толстошеев начинает постепенно озлобляться на них. И диавол, радуясь, что всё уже созрело для выполнения его плана, разжигает толстошеевскую злобу в лютую ненависть, в забвение всякой действительности.
Читать дальше