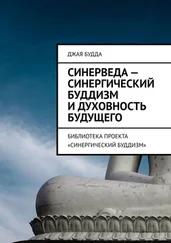Превосходство «поля добродетельных качеств» обусловлено и мерой страдания, в которое погружен адресат даяния в момент поднесения ему материальных предметов. Добродетельные качества дарителя возрастают, если дар адресован холерному больному, или прокаженному, или тому, кто ухаживает за инфекционными больными, ежедневно рискуя заразиться. Дар, поднесенный в холодное время года, также способствует возрастанию добродетельных качеств дарителя.
Добродетельные качества «поля» возрастают в момент поднесения дара человеку добродетельному. А поэтому превосходство «поля» зависит и от почтительного служения донатора своим благодетелям — матери, отцу и другим. Такое ежедневное и неуклонное служение, безусловно, относится к разряду достойного действия.
Побуждения, из которых исходит даритель, намереваясь совершить акт даяния, интерпретируются буддийскими теоретиками, как и в других случаях, по шкале «благое-неблагое». В канонических текстах перечисляется восемь видов даров, классифицированных по критерию побуждения. Первым в списке числится дар «тому, кто находится рядом», т. е. первому подошедшему. Состояние сознания, обусловливающее акт дарения в этом случае, весьма слабо опосредовано пониманием религиозной пользы даяния и мотивом почитания.
Далее следует дар, подносимый «из опасения», — некто, понимая, что вещь или пища близки к состоянию негодности, преподносит эти обесценившиеся предметы в качестве дара, надеясь совершить достойное деяние, не входя в расходы. В русской православной культуре мотив подобного недостойного дарения выражается поговоркой: «Возьми, небоже, что нам негоже», т. е. дать нищему и убогому то, что не может более быть полезным для владельца, не представляет для него никакой ценности.
Третий вид дара — это ответное действие по модели «подарок-отдарок», весьма характерный элемент архаической традиционной культуры. Обмен подарками в традиционных социумах являлся нормативным ритуалом и, разумеется, не мог быть признан буддийской догматикой в качестве специфического достойного действия. Дарение в данном случае выступает мотивированным внешними обстоятельствами, а не внутренней благой потребностью совершить акт даяния.
Четвертый вид дара фиксирует желание получить отдарок — «Чтобы он мне дал». Другими словами, имеет место корыстная мотивация акта дарения, т. е. неблагой сознательный импульс-побуждение.
Затем следуют три вида даров, также совершаемых в соответствии с небуддийскими традициями: «Потому что мои предки и мои родители давали»; дар, имеющий целью обретение жизни на небе (сварга); дар ради обретения славы.
Только восьмым в этом списке числится дар, признаваемый буддийскими теоретиками в качестве достойного действия, — дар для «украшения сознания». Он полностью свободен от каких-либо прагматических или ритуальных мотивирующих импульсов, характерных для семи вышеперечисленных видов даров, и относится к категории высшего дара.
Говоря о высших дарах, непременно следует указать материальный дар, который преподносит Благородный, отбросивший все желания, такому же, как он, освобожденному. Таков же дар Бодхисаттвы для блага всех живых существ. Но если индивид, несвободный от желаний, преподносит только ради «украшения сознания» дар такому же, как он, несвободному, в этом случае также имеет место превосходное достойное действие.
Очень высоким благим статусом обладают даяния, осуществляемые в адрес продвинутых буддийских монахов. «Неизмеримый благой плод», согласно буддийскому умозрению, возникает в результате подношения дара «тому, кто обрел плод вступления в поток», однако «дар вступившему в поток по своему следствию еще более неизмерим».
В качестве «безмерных» рассматривались и благие следствия даров, преподносимых обычными людьми («неблагородными») матери, отцу, инфекционному больному, проповеднику Дхармы и Бодхисаттве в последнем рождении. Подношения матери и отцу оцениваются как благое деяние на том же основании, что и их убийство — как смертный грех: родители — податели человеческой формы рождения. Подношение им означает понимание индивидом религиозной ценности человеческого рождения.
Дар инфекционному больному — благо, поскольку продиктован состраданием и тем самым приближает дарителя к «дхармам бодхисаттвы».
Проповедник Дхармы относится к разряду благодетелей подобно отцу и матери, ибо он выступает в роли «благого друга», помогающего живым существам прозреть, проливает свет на достойное и недостойное. Деятельность буддийского проповедника характеризуется словами: «Он выполняет работу Будды». Такое определение устанавливает линию непрерывной преемственности проповеди Дхармы от Бхагавана к наставникам более поздних времен. Типологически это соответствует принципу апостольского рукоположения в христианстве: в ритуале хиротонии современный православный священник обретает харизму Основателя Церкви.
Читать дальше
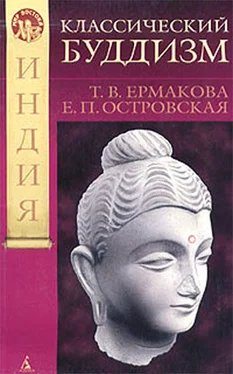

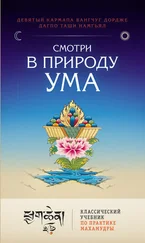
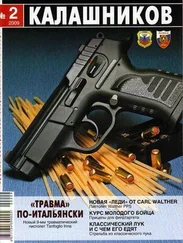
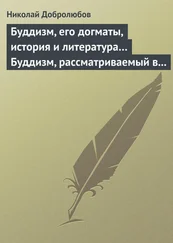

![Якоб Гримм - Сказки братьев Гримм [Классический перевод и классические иллюстрации]](/books/392570/yakob-grimm-skazki-bratev-grimm-klassicheskij-pere-thumb.webp)