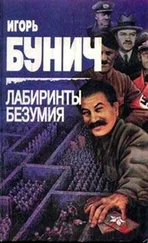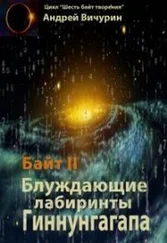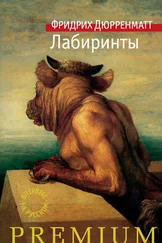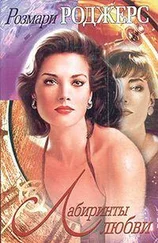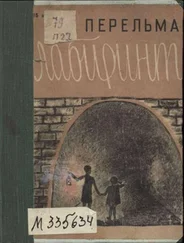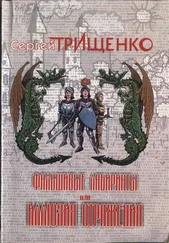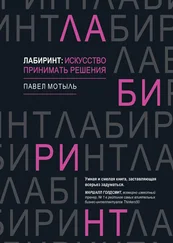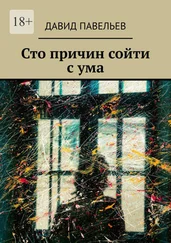Несколько столетий философия была зажата в узкие границы, заданные «идолом поиска границ познания». Евгений Алексеевич верил, что нам удастся найти «обходные пути, ведущие контрабандиста-философа за пределы интеллектуальных кордонов». Сейчас можно с уверенностью сказать: «обходные тропы и рытье подкопов» дали свои долгожданные результаты, подготовили выход «за границы». Для этого нам приходится проводить тщательные, кропотливые исследования, порой небезопасные для жизни, в различных частях света, в том числе в «экзотических уголках» планеты: от амазонской сельвы в Латинской Америке до высокогорий Непала и Тибета.
Без лишней скромности мы должны сказать, что многие гипотезы в сфере мистического опыта, которые мы разрабатывали много лет назад, нашли немало подтверждений.
Религиозный и мистический опыт
Для устранения путаницы следует уточнить и соответственно разграничить понятия «религиозного» и «мистического» опыта в соответствии с определением «религии» и «мистики» как таковой. Добавим также, что для нашего исследования средств одной психологии религии будет недостаточно по двум причинам. Во-первых, до настоящего момента психологию религии не интересовал вопрос взаимосвязи религиозного опыта и нейрогуморальной регуляции [10]организма человека. Во-вторых, по нашему определению, область изучения психологии религии – психика, психическая деятельность человека (и не более того). Но мистика – это уже выход за границы психики, мистика – это уже не область псюхе и психофизической активности (об этом подробнее см. ниже главу «Религия и мистический опыт»).
Итак, одна наша задача – выяснить, какое отношение к религиозному опыту имеет человеческий мозг. Существуют ли объективные [11]методы исследования субъективных переживаний? И что нам могут дать результаты таких объективных методов исследования для анализа религиозного опыта?
Вторая наша задача – уяснить вектор мистического переживания, указав причины и условия возникновения самой потребности в мистическом опыте.
Относительно первой части исследования стоит сказать, что, с одной стороны, несмотря на глубокие перемены в религиозной обстановке в нашей стране, в большинстве естественно-научных учебников, освещающих физиологию высшей нервной деятельности, продолжает доминировать материалистическая позиция. Само собой разумеющимся считается восприятие мозга как эпифеномена [12]высокоорганизованной материи, т. е. центральной нервной системы (ЦНС).
С другой стороны, в философии, религиоведении и прочих гуманитарных науках материалистическая позиция в настоящее время считается в целом изжившей себя (заодно со старой советской марксистско-ленинской идеологией).
Религиоведение и нейрология в России продолжают существовать как бы в параллельных мирах и в целом предпочитают не сталкиваться между собой. Хотя, правды ради, следует отметить, что в нашей стране нейронаука делает попытки изучения религиозных феноменов.
Выдающийся вклад в этом направлении внесла Наталья Петровна Бехтерева, ученый-физиолог, научный руководитель Института мозга человека Российской Академии наук (ИМЧ РАН), руководитель научной группы нейрофизиологии мышления и сознания. Наталья Бехтерева создала комплексный метод исследования принципов структурно-функциональной организации головного мозга человека, механизмов мышления, памяти, эмоций и творчества. Кроме «чисто научных» и «сугубо физиологических» процессов, Бехтереву в не меньшей степени интересовали вопросы «странных» явлений, связанных с деятельностью головного мозга: сверхсильное влияние одного человека на другого или на других в заданной ситуации, причем влияние не только на психическую, но и на соматическую сферу, ви ґ дение отдаленных событий настоящего, прошлого и даже будущего (Н. П. Бехтерева. «О мозге человека»). «Выход из тела, – задается вопросом Н. П. Бехтерева, – действительно выход души или феномен умирающего мозга, умирающего не только клинической, но уже и биологической смертью?» Удивительно, но признанный, авторитетный и «серьезный» ученый, Наталья Бехтерева все-таки приходит к выводам далеко не материалистическим. «<���…> Я хочу подчеркнуть, – пишет Бехтерева, – что если ранее наука противопоставлялась религии (но, кстати, не наоборот; если полистаете труды прошлых веков, вы увидите, что даже казнь Джордано Бруно была, по существу, не столько борьбой с его учением, сколько борьбой с ним самим), то сейчас, хотя по инерции или сознательно все это еще происходит, наука вошла в ту фазу, когда она скорее подтверждает, прямо или косвенно, по крайней мере ряд положений религии, которые в период младенчества науки могли быть приняты только на веру».
Читать дальше