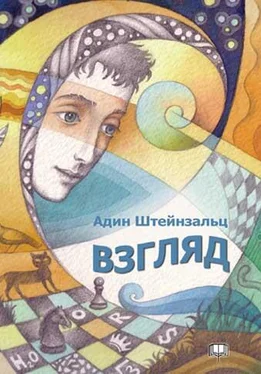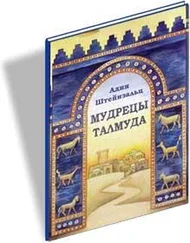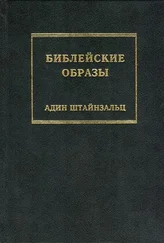Демократические модели общественного устройства, в том числе и западного образца, коренятся в Торе, даже если эта связь не очевидна. Современные представления о демократии являются диковинным гибридом, порожденным культурами, находящимися в вечном противостоянии. Само это понятие, заимствованное из античной культуры (хотя тогда в него вкладывался несколько иной, нежели в наши дни, смысл), стало применяться по отношению к определенным формам государственно-политического устройства в Европе в новое время. Со времен Французской революции избирательное право поэтапно предоставлялось все новым и новым группам населения, хотя, как уже было отмечено выше, для этого не было никаких рациональных предпосылок. Парадокс заключается в том, что страны, где религиозная идеология утрачивала господство и управление государством строилось на, казалось бы, рациональной основе, постепенно, по мере исторического развития, все в большей и большей степени реализовывали представление о демократии, которое было лаконично изложено несколько тысячелетий назад в Священном Писании! По различным причинам идеологического характера этому факту никогда не придавалось должного значения; поэтому я отношу его к категории исторических парадоксов. Но именно в этом направлении развивается однажды сформулированная на еврейском языке идея демократии.
Как уже говорилось выше, слово демократия, вопреки его буквальному значению, изначально имело более ограниченный смысл, поскольку на поверку власть народа оказывалась властью меньшинства над большинством. Однако для рационально мыслящего человека эта проблема — чисто математическая: ведь аргументов, подтверждающих превосходство большинства над меньшинством за счет силы интеллекта, образования, квалификации и т. д., попросту не существует. Это превосходство было бы несомненным, если бы все избиратели имели сходный жизненный опыт, уровень образования и показатель IQ, — только в этом случае, с рациональной точки зрения, можно было бы говорить о безусловной правоте большинства. Вопреки расхожим утверждениям телекомментаторов и политологов (а подавляющее большинство цивилизованных людей, как ни странно, к ним действительно прислушиваются), получается, что человечество пользуется благами демократии, основываясь отнюдь не на анализе, а на вере.
В отличие от современного демократического общества, тоталитарный режим стремится к достижению абсолютного контроля над каждым индивидуумом и обретает все больше возможностей для этого благодаря развитию технологий, позволяющих постоянно совершенствовать механизмы надзора и управления обществом. В предыдущие исторические периоды без совершенного технического оснащения нельзя было контролировать всех и каждого. Более того: даже если общество в те времена предпочло бы тоталитарный режим демократическому, ему вряд ли удалось бы осуществить желаемое в полной мере.
Нацистская Германия и Советский Союз являли собой, пожалуй, наиболее яркие примеры тому, что такое тоталитаризм. Однако в обоих случаях стоявшие во главе этих государств лидеры, несмотря на все прилагавшиеся в этом направлении усилия, так и не смогли полностью решить проблему своевременного получения оперативной информации о каждом: техническое оснащение соответствующих служб было далеко не таким совершенным, как им хотелось бы. Что мешало тоталитаризму добиться абсолютного контроля? Раздутая и неэффективная бюрократия и несовершенство средств связи в годы, когда электроника только зарождалась…
Если бы в свое время Советский Союз имел достаточное количество технических средств, события там развивались бы по сценарию, описанному в книге Дж. Оруэлла 1984. В домах — телекамеры, ведется постоянное наблюдение, известно, чем в течение дня занимается каждый. Без всего этого власть не может быть тотальной. Если же где-нибудь есть укромное местечко, куда неспособно заглянуть недремлющее око Большого Брата, то там может возникнуть очаг восстания против режима. Не случайно толчком для всех описанных в книге Оруэлла событий послужила неправильная установка телекамеры в комнате главного героя, из-за чего маленький уголок в ней не просматривался.
В Древнем Египте фараона считали божеством и почитали не меньше, чем Сталина в СССР. Однако владыка Египта не мог, подобно своему советскому коллеге, монополизировать власть: в те времена не было никакой технологии, которая позволила бы оперативно собирать необходимую информацию в каждом уголке страны, доводить ее до сведения властелина и передавать на места его распоряжения.
Читать дальше