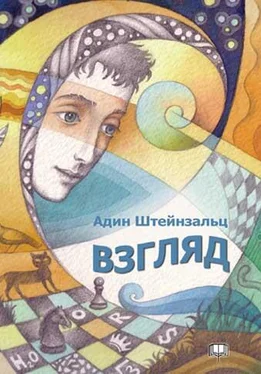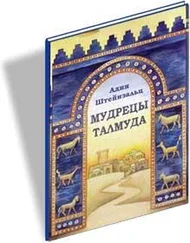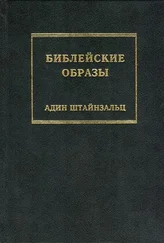Как вы поступите, если захотите привести в порядок растрепавшуюся книгу: обратитесь к переплетчику или созовете референдум? И если очевидно, что не стоит прибегать к голосованию по любому поводу, то почему, когда дело касается войны и мира, состава парламента, личности премьер-министра и т. д. и т. п., это равноправно решают академики и невежды, инженеры и домохозяйки? Между тем, во всех демократических странах происходит именно так! Например, в Израиле во время выборов премьер-министра в 1996-м году решающим оказался перевес в несколько тысяч голосов. Кто-то тогда едко заметил, что судьбу государства Израиль решили голоса либо уголовников, либо умалишенных.
Может ли каждый, кому закон дает право голоса, разобраться в серьезнейших политических проблемах, способен ли он объективно оценить ситуацию? Нормально ли положение, при котором судьбы страны зависят от решений, принятых дилетантами? В одном из платоновских диалогов, когда разговор заходит о демократии, оппоненту дается такой совет: прежде установи демократию в своей семье, а уж потом принимайся за государство! И действительно, проведите среди детей референдум, поставьте на голосование вопрос: читать приключенческую книгу или делать уроки? Итог предопределен… Так почему же в семье взрослые никогда не прибегают к демократическому принципу решения проблем, а вне ее полностью на него полагаются? Ведь ответ на вопрос, кто будет премьер-министром, определяется порой на том же детском уровне.
Демократический способ голосования — это своего рода лотерея, последствия которой непредсказуемы. И при всем этом необходимо отметить, что мировая история последних десятилетий свидетельствует о том, что интеллигенция ошибается еще чаще, чем обыватели. Еще памятны всем времена, когда интеллектуалы — отнюдь не советские, а западные! — питали безграничное доверие к коммунистическому режиму и оказывали ему всестороннюю поддержку. Некоторые из них были настоящими корифеями в своих областях науки и культуры, всесторонне и глубоко эрудированными, просвещенными людьми — и при этом свято верили в прогрессивность строя, погубившего, среди прочих своих жертв, бессчетное множество людей только за то, что они были… интеллектуалами. Не случайно в последнее время появилось немало книг, посвященных благоглупости интеллигенции. Можно найти множество примеров тому, что именно она была той общественной группой, которая чуть ли не в последнюю очередь понимала, что происходит вокруг. Парадоксально, но факт: люди, располагающие информацией во всевозможных областях, зачастую оказываются беспомощными при анализе определенных вопросов либо столь зашоренными, что не задумываются над всеми возможными последствиями своих решений. Именно поэтому не столь важно, чем обусловлено то или иное предпочтение избирателя, — ведь вероятность ошибки у сапожника ничуть не выше, чем у доктора наук. Исходя из всего, что было здесь сказано, свободный демократический выбор отнюдь не рационален, а подобен бросанию жребия. Поступая так, современное человечество полагается в этом вопросе скорее на веру, чем на здравый смысл.
Считается, что западная демократия в ее сегодняшних формах в значительной степени сформирована под влиянием двух различных источников: эллинизма и иудаизма. У Платона сказано: Человек, который чего-либо не знает, имеет верное представление о том, чего он не знает. Иначе говоря, каждому из нас, независимо от полученного образования, присуще некое общее представление об истинной природе вещей. Но, тем не менее, нельзя сказать, что уже в Древней Греции повсеместно руководствовались этим принципом.
То, что женщины не должны иметь право голоса, для жителя Эллады являлось самоочевидным. Древние полагали, что мужчина — более умное создание, чем женщина, и поэтому только сильный пол был вправе принимать глобальные решения. Слабый пол традиционно считался легкомысленным, в подтверждение чему выдвигались различные доводы — вплоть до аргументов физиологического характера. Еще в девятнадцатом веке было широко распространено утверждение (его можно найти в старых книгах по медицине), согласно которому женский мозг в среднем на четверть легче, чем мужской, а если мозг не весит, скажем, полтора килограмма, он не может функционировать полноценно. Здесь, разумеется, речь не идет о детях.
Сорок лет назад один биолог, по убеждениям — пламенный коммунист, написал довольно любопытную книгу (что не столь характерно для коммуниста), которая называется Неравенство людей. В ней перечислены столько существующих между людьми физиологических и психологических различий, что, казалось бы, говорить после этого о равноправии в человеческом сообществе бессмысленно. Безусловно, этот биолог не был расистом и, конечно же, выступал против любой дискриминации и ратовал за свободу слова. Но поскольку в своем труде он отрицал саму возможность существования равенства, мы вправе спросить: как такой человек мог пропагандировать демократию?
Читать дальше