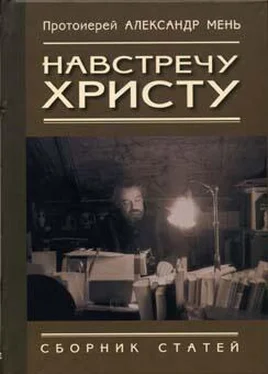Второй его задачей был ответ на вызов европейской отрицательной критики. До тех пор православные библеисты чаще всего обходили ее молчанием, поскольку духовная цензура запрещала излагать идеи рационалистов на страницах церковных журналов и книг. Реформа 60-х годов и некоторые цензурные послабления способствовали проникновению в Россию радикальных западных веяний. Между тем, этот период был на Западе периодом бурного развития историко-литературной критики Библии (Г. Эвальд, Г. Гольцман, Э. Ренан, К. Граф и другие). Поэтому Михаил Лузин считал, что русская библеистика должна высказать компетентное суждение о критических гипотезах. «На мою долю, — говорил он, — выпал жребий сделать в доступной мне области первый у нас опыт открытого состязания с современными отрицательными учениями» 57 . Его полемический труд о Ренане, написанный сразу же после выхода нашумевшей «Жизни Иисуса», был представлен им как докторская диссертация. Публичная ее защита стала важным церковным событием. На ней присутствовали многие представители образованных московских кругов. Впервые деструктивные идеи в области библеистики тщательно излагались и подвергались научнобогословскому анализу. Эту критическую работу Михаил Лузин продолжил в цикле своих лекций, изданных посмертно под заглавием «Библейская наука» (Тула, 1898–1906). Он положил начало новому направлению в русской библеистике, которое учитывало достижения и ошибки библеистики западной. У Михаила Лузина было немало талантливых учеников, которые трудились впоследствии уже вполне самостоятельно, обогатив православную науку о Священном Писании ценными комментариями и монографиями по священной истории, библейскому богословию, археологии, исагогике и текстологии.
В России и среди западных ортодоксальных кругов XIX века историко-литературная критика воспринималась как атрибут антихристианского или нехристианского мировоззрения. Действительно, Д. Штраус, Тюбингенская школа и школа Ю. Велльгаузена руководствовались философскими предпосылками, отвергавшими церковное учение. Спинозизм и гегельянство, рационализм и исторический эволюционизм были исходными пунктами для многих библеистов, особенно в протестантской Германии. Поэтому неудивительно, что попытки перестройки всей концепции библейской истории, новые датировки священных книг, отрицание их традиционной атрибуции воспринимались как покушения на самые основы христианской веры. В первой половине XIX века те западные исследователи, которые пытались сочетать веру и историческую критику (например, М. Л. Де Ветте), были не в состоянии прийти к синтезу и переживали тяжелые внутренние конфликты. Попытка А. Ричля и всей либеральной школы, вплоть до А. Гарнака, найти этот синтез не могла удовлетворить ортодоксальную мысль, так как вела к расплывчатому адогматизму. На фоне этих трудностей и развивалась русская апологетическая библеистика прошлого века.
Из представителей ее на первом месте стоит ученик Михаила Лузина, протоиерей Николай Елеонский (1843–1910), преподававший в Московской Духовной Академии, а затем в Московском университете 58 . Он писал исследования о теориях Ф. X. Баура, Ю. Велльхаузена, Фридриха Делича. Отстаивая древность Пятикнижия, он справедливо указывал на его архаический язык, отражающий более ранний этап, нежели писания классического профетизма. Он не только полемизировал с западными авторами; многие из них получили в трудах Елеонского высокую оценку (в частности, Франц Делич и К. Ф. Кайль, исагогический курс которого он частично перевел). Библейской апологетике была посвящена большая работа профессора Харьковского университета, протоиерея Тимофея Буткевича (1854–1925) «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» (2-е издание — СПб., 1887). В ней содержится обзор рационалистического толкования Евангелий, начиная от Гердера и Шлейермахера, и собраны возражения на критику по всем частным вопросам евангельской истории 59 .
Против решения синоптической проблемы, предложенного Г. Эвальдом и Г. Ю. Гольцманом, была написана книга известного русского историка, археолога и библеиста Николая Ивановича Троицкого (1851–1920) «О происхождении первых трех канонических Евангелий» (Кострома, 1878), в которой прослежена история вопроса с XVIII до середины XIX века 60 . Крупным библеистом был профессор Московской Духовной Академии Митрофан Дмитриевич Муретов (1850–1917). Он задумал цикл работ под общим заглавием «Главные типы новейшего отрицания Евангелия» 61 . Однако цензура приостановила их печатание. Вышли лишь отдельные части книги (о предшественниках Штрауса, об Эйхгорне и Ренане), но и то, как отмечал протоиерей Г. Флоровский, с опозданием на пятнадцать лет. Необыкновенной продуктивностью отличался русский экзегет-новозаветник, архиепископ Василий (Богдашевский; 1861–1933), выпускник и преподаватель Киевской Духовной Академии 62 . Он не только критически разобрал отрицательные гипотезы, но и создал серию глубоких комментариев, в которых соединял верность православной традиции с серьезным знанием западной литературы. По его собственным словам, он «везде старался держаться строго научной положительной точки зрения, оправдываемой историческим церковным преданием».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу