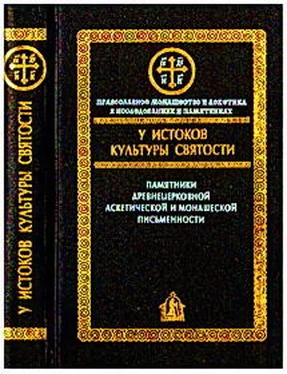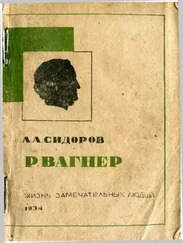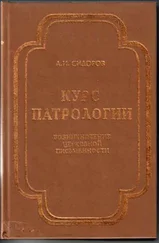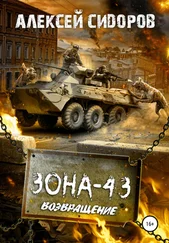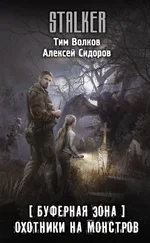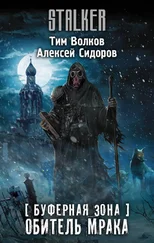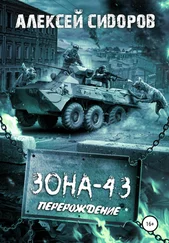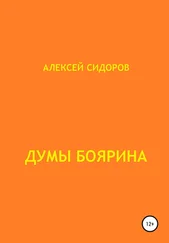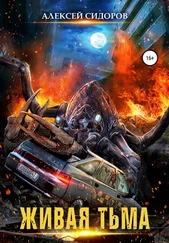Данная фраза (έπι πλείστον ταπεινώσαι βουλόμενοι), в которой используется глагол ταεινόω («смирять», но также и «унижать»), показывает, что есть «смирение от Бога», но есть и «смирение от лукавого», т. е. унижение человека, низведение его до скотского состояния.
Ср.: «Вкушай хлеб свой, отмеривая на весах, и мерою пей воду свою — тогда дух блуда убежит от тебя». Творения аввы Евагрия , с. 135. Евагрий и в данном случае является истинным учеником великих египетских старцев и, в частности, преп. Макария Александрийского, который некогда сказал ему такие слова: «Будь мужественным сын [мой]: целые двадцать лет не вкушал я до сытости ни хлеба, ни воды, ни сна. Ибо хлеб я ел, отвешивая [малый кусок]; воду пил, отмеривая [малой1 мерой, а малую толику сна урывал прислонившись к стене». Там же, с. 111. О данной живой связи Евагрия с преп. Макарием Александрийским, а, соответственно, и о связи их аскетического учения см.: Driscoll J. The «Ad Monachos» of Evagrius Ponticus. Its Structure and a Select Commentary. Romae, 1991, p. 127–128.
Древние подвижники высоко ценили книгу псалмов Давида и знали ее великую силу в духовной брани. И они бы вполне согласились с такой характеристикой Псалтири: «Эта дивная книга есть один сплошной и непрерывный гимн хвалений и славословий Богу, гимн, полный глубокого религиозного поучения, пророчественного знаменования и непритворно искреннего пламенного чувства. Как в зеркале, в Псалтири отражается вся душа человеческая, с ее нуждами и печалями, радостями и упованиями, вся жизнь наша, с ее суетой и страданиями, утехами и озлоблениями, — эта вечная борьба бессмертного духа, стремящегося к небу, к совершенству, святости, к своему Первоисточнику и Первообразу — Богу, но одолеваемого плотию со всеми ее низменными страстями и вожделениями. Нет такого душевного состояния и дйижения, которое не нашло бы себе отголоска в книге Псалмов — тут отражение всех наших мыслей и чувствований, тут все родное, близкое душе нашей, тут все свое и свойственное нам, — поистине это песнь души нашей, всестороннее отражение разверстого поэтическому взору боговдохновенного мудреца сердца человеческого». Поэтому, как и все христиане (а до них — богоизбранный ветхозаветный народ), «святые подвижники и угодники Божии утешались и укреплялись пением псалмов». Царевский А. О священной поэзии праворлавного христианского богослужения // Православный Собеседник, 1902, ч. I, с. 399–400.
Толкуя Притч. 3, 24–25, Евагрий говорит: «Из этих слов мы узнаем, что милостыня (ή έλευμοσύνη) уничтожает страшные видения (φαντασίας), случающиеся ночью. Это же делают кротость, негневливость и долготерпение, а также все [добродетели], которым присуще унимать яростное [начало души]. Ибо страшные призрачные видения (τα φοβερά φάσματα) обычно происходят от того, что яростное [начало нашей души] приводится в смятение [бесами] (εκ της ταραχής του θυμου)». Evagre le Pontique. Scholies aux Proverbes, p. 130.
Эта фраза (σχήμα ποιμαντικόν περικειμενον και νέμοντα ποίμνιον) может указывать, с одной стороны, на служение духовника, старца, который в древней Церкви далеко не всегда имел священнический сан. Обозначение такого старца, как «пастыря» (ποιμήν) встречается в святоотеческой письменности (например, у преп. Иоанна Лествичника). См.: Смирное С. Духовный отец в древней восточной Церкви, ч. I. Сергиев Посад, 1906, с. 8. Разумеется, такое старческое служение могло совмещаться и со священническим служением.
В другом своем сочинении Евагрий описывает действие помысла тщеславия следующим образом: «Он [заставляет монаха] воображать, как кричат [изгоняемые из одержимых] бесы, как исцеляются женщины и как толпа прикасается к [его] одеждам; затем прорицает ему священство и [массу народа], стоящую у дверей и жаждущую [увидеть] его. И возбудив таким образом [монаха] пустыми надеждами, [помысел тщеславия] улетает, оставив его на искушения либо бесу гордыни, либо бесу печали, который наводит на монаха помыслы противоположные [прежним] надеждам». Творения аввы Евагрия, с. 98.
Образ такой «лествицы» употреблялся в древнецерковной письменности уже св. Ипполитом Римским, который, сравнивая Церковь с кораблем, говорит: «Лестница же на ней, возводящая на высоту к мачте,. — это образ знамения страсти Христовой, — тот образ, который влечет верующих к восхождению на небеса». Святитель Ипполит Римский. Творения. Вып. 2. Сергиев Посад, 1997, с. 40.
Читать дальше