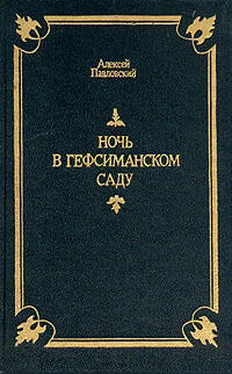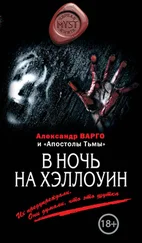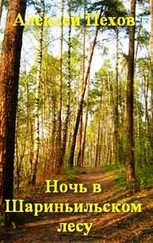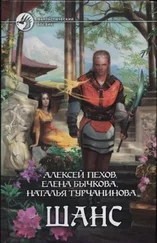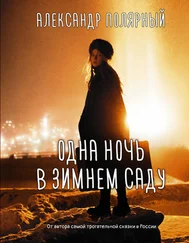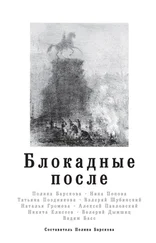Но дело, конечно, не в том, соответствуют ли иногда библейские утверждения рабочим гипотезам науки, иногда тоже не бесспорным и меняющимся с каждыми новыми исследованиями, — не забудем, что мы читаем сейчас Библию по преимуществу как произведение поэтическое.
Рассеянный свет, появившийся по божьему слову в первый день творения, на четвертый день собрался, сгустился, или, выражаясь современным языком, сфокусировался в светила, образовавшие на небе знакомый нам всем узор. В Библии сказано, что узор этот не только прекрасен, но и имеет смысл: он дает возможность измерять время и угадывать направление в пространстве и в судьбе.
В пятый день Бог создал пресмыкающихся, животных и «всякую птицу пернатую». Он их благословил и сказал : «…плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» (Быт. 1: 22).
И наконец, в шестой день был создан человек. Об этом, с присущей Библии торжественностью, сказано так: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею…» (Быт. 1: 26).
Человек был создан из праха, из земли. Он был комочком красной глины, пока Бог не оживил его своим дыханием, вдунув в мертвый прах бессмертную живую душу.
А седьмой день стал днем отдохновения.
Надо, наверно, еще добавить, что шесть дней творения, как и многое другое в Библии, не следует (по мудрому совету Эразма) понимать буквально. Библейские время и пространство далеко не всегда совпадают с нашими обыденными представлениями, сложившимися тогда, когда уже были изобретены календарь, часы, то есть когда в сознании человека появилось само понятие времени. Поэтому было бы, конечно, верхом наивности предполагать, что дни творения вершились по нашим суткам с их двадцатью четырьмя часами и по нашему солнечному или лунному календарю. Шесть дней — поэтическая условность, гигантская, великолепная и поистине божественная метафора, взывающая не к повседневным, бытовым знаниям, а к вере и поэтическому чувству, она рассчитана на потрясение — религиозное, поэтическое или просто безотчетно — эмоциональное.
Великое творение мира свершилось тогда, когда не было не только мира, но и самого времени. В Апокалипсисе сказано, что когда-то времени не было и — грозно пророчествует эта книга! — когда-нибудь, в конце света, его опять не станет…
Мысль о том, как не бывает времени (а это, может быть, самое страшное и мучительное, что может себе представить человеческое воображение), прошла через всю мировую литературу. В русской классике она с особой силой возродилась у Ф. Достоевского.
Первоначально Бог создал человека бессмертным, но, как мы увидим, драматические события, развернувшиеся в дальнейшем, лишили человека, по его же собственной вине, блаженного дара. Правда, душа человеческая так и осталась бессмертной, но, как пояснил много позднее апостол Павел, не у всех и не всегда, но это, впрочем, почти целиком стало зависеть от самого человека.
Однако здесь начинается уже следующая страница Ветхого завета.
Как уже было сказано, Бог сотворил человека из праха, из красной глины, вдунул в него душу и придал ему собственные черты. Он дал ему и имя — Адам, что дословно означает «человек».
Страницы, где описывается жизнь Адама в раю, пожалуй, одни из самых пленительных во всей мировой литературе.
В главе, где описывается райский сад, фразы словно источают легкую и нежную мелодию; все тихо, солнечно, земля уютна; деревья, цветы и злаки ласкают взор своего единственного властелина и тянутся к нему в руки. Посреди сада, разделяя его, плавно текла большая река — она питала растения влагой, от нее же исходил легкий пар, украшавший вечно голубое безмятежное небо тонкими облаками, еще не знавшими ни гроз, ни молний. В середине, отделенное от других деревьев цветущей лужайкой, стояло, возвышаясь над ними, дерево жизни, а неподалеку раскинуло широкую крону, усеянную золотистыми и румяными плодами, древо познания. Плавно огибая это священное место, река катила свои прозрачные воды куда-то далеко за пределы сада. Адам никогда не задумывался о том, куда течет столь хорошо знакомая ему река, исчезая из глаз за деревьями и кустарниками. У него не было желания узнать что-либо помимо того, что его окружало. Он даже не знал, что был счастлив.
Однако, как ни странно, первый человек, олицетворяющий в наших глазах счастливое неведение, хотя и был безмятежен, но не был бездеятелен.
Читать дальше