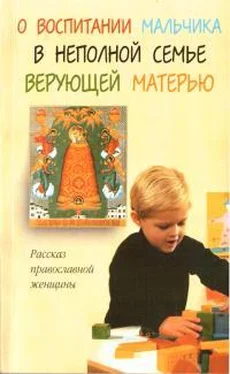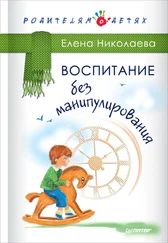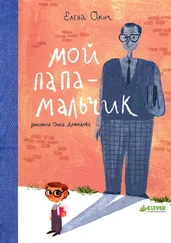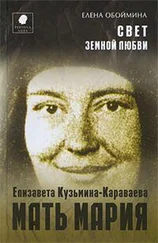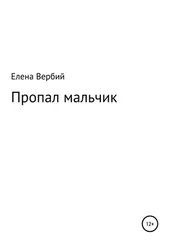Ему не запрещали помогать. Просто дедушка вынужден был переделать все запоры на дверцах так, чтобы Илья не смог самостоятельно их открыть. Теперь «управляться» ходили вместе и можно было уследить, чтобы и яйца были целы, и малыша не забил злой петух и не покусали бы свиньи. Кроме того, мы с сыном ходили пасти козочку с козлятками в лесополосу за домом. Там мы с ним придумывали разные истории про наших животных: как Танчик (наш пес) решил покататься на дедушкиной машине сам, а у него ничего не вышло; как индюки пошли вместе с утками поплавать в ручей; как козочка потеряла своих непослушных козляток, а Муська (кошечка) вместе с Илюшей нашли «дорогую пропажу» и успокоили козочку.
Обычно выдумывать начинала я, а Илья прибавлял новые подробности, так и получалась забавная историйка о приключениях наших знакомцев. Опасности, которые подстерегали наших героев, были самые обычные: голод, холод, дождь, отсутствие крыши над головой, одиночество и т. п. Но в наших историях никто никого не бил, не терзал, не убивал, а герои были счастливы, что все хорошо закончилось, мы никого не ругали, а просто поучали: «Смотри, Танчик, не садись в машину, если не умеешь рулить; не ходите, козлятки, одни в лес, не тревожьте маму-козочку».
В нашем доме все относились друг к другу ласково и с заботой. Родители всегда оказывали один другому маленькие знаки внимания: при встрече радостно приветствовали друг друга, а расставаясь, тепло прощались, все и всегда желали домашним доброго утра, спокойной ночи, приятного аппетита, не скупились на благодарности и похвалы, говорили и «спасибо», и «пожалуйста». Никто ни на кого не кричал, ни с кем не спорил. Никто не старался унизить другого или показать, насколько неважно ему то, что чувствуют или делают другие, ценили труд друг друга. В нашей семье не было эгоизма.
Конечно, пока родители были молоды, случалось по-всякому. Но они очень ответственно отнеслись к тому, что теперь с нами живет маленький человечек, который с непостижимой быстротой запоминает (и, конечно же, воспроизводит) все, что видит или слышит. И если раньше они могли попустить возникновение каких-то трений между собой или между собой и мной, то теперь мы старались быть внимательнее друг к другу. Все старались окружить малыша такой любовью и таким вниманием, чтобы он, подрастая, не смог бы изменить своего внутреннего настроя, обусловленного добрыми отношениями в семье, где прошло его детство. Все старались вырастить из него сердечного и чуткого человека. Надеюсь, что мы сумели заронить в него доброе зерно.
Конечно, и в том, раннем еще возрасте не все было гладко. При всех его положительных качествах и благоприобретениях сын был катастрофически жаден. Все было «мое», свои права на владения всей игрой или яблоком (или еще чем-нибудь) он отстаивал яростно и упорно. Все предложения угостить кого-либо чем-либо или поделиться всегда встречали категорическое «нет!». Приходилось брать его за руку с зажатым в ней лакомством и плачущего тащить насильно угощать несчастных, страдающих (от его истошных воплей) бабушку и дедушку. А потом все наперебой хвалили Илюшу за его «щедрость», восторгались тем, какой он не жадный мальчик, умница, добрый, он не пожалел кусочка колбаски для дедушки, поскольку знает, что дедушка так любит эту колбаску.
Так, с великими трудностями совместными усилиями мы справились с жадностью. Сыну настолько понравилось быть щедрым, что спустя совсем немного времени его друзья, пользуясь ситуацией, стали совершать чуть ли не ежедневные опустошительные набеги на наш холодильник. Мальчик раздавал все: еду, игрушки, вещи, не задумываясь, и воспитать в нем чувство меры также было задачей не из легких.
Хочу сказать, что я приняла Святое Крещение в возрасте двадцати пяти лет. Сыну было тогда чуть больше годика. Его окрестить все никак не удавалось: все что-то да не складывалось. Но он привык к тому, что в доме есть иконы, и изредка видел (когда не спал и не был занят своими играми), как молимся я или бабушка. Настал день, когда я поняла, что ребенка необходимо крестить, и чем быстрее, тем лучше.
Во-первых, он подрастал и становился всё рассудительнее. Если я ему говорила, что так или иначе поступать нехорошо, то он стал выстраивать ситуацию таким образом, что в ней оказывалась лазейка для оправдания плохого поступка. Мне приходилось затрачивать очень много времени, чтобы убедить его: если это «плохо», то это «плохо» в любом случае. Такие беседы стили происходить все чаще и чаще. Все чаще и чаще стало звучать: «А если..?» Нет, он, безусловно, слушался меня, и когда я чувствовала, что убедила его, то могла быть уверена: он не поступит плохо. А вдруг я не буду достаточно убедительной? Что сможет его удержать от совершения неправды, недоброго поступка, от греха?
Читать дальше