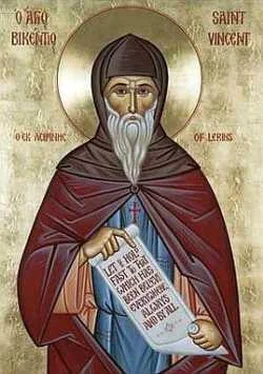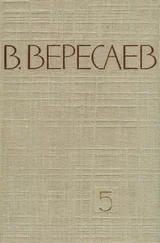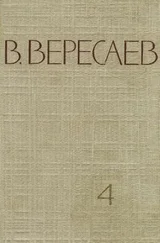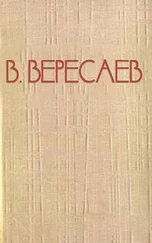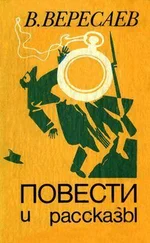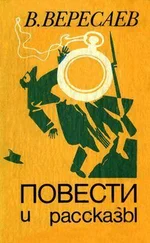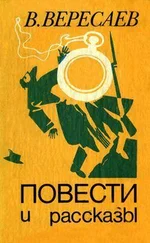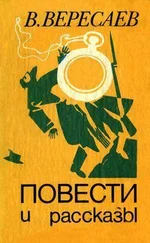V. Подумают, что мы воображаем это по ненависти к новизне и по любви к старине? Кто только думает так, тот должен поверить по крайней мере блаженному Амвросию. Сей, оплакивая горестное время то, во второй книге (о Вере, гл. 4) к императору Грациану говорит: «Но довольно уже, всемогущий Боже, омыли мы ссылкой своей и кровью своей убиения исповедников, ссылки священников и непотребство столь великого нечестия. Довольно ясно стало, что кто решится нарушить веру, тот не может быть безопасным». [ [12] Св. Амвросий Медиоланский. De fide lib. 2, cap. 4: opp. p. 3. f. 109 v. 1516 г.
] Он же и в третьей книге того же сочинения говорит: «Итак, будем хранить заповеданное предками и не дерзнем, по невежественному безрассудству, повреждать печати, доставшиеся по наследству. Известную запечатанную книгу пророческую ( Апок.5:1–10 ) не дерзнули разгнуть ни старцы, ни Власти, ни Ангелы, ни Архангелы: право раскрыть ее прежде всех предоставлено одному Христу. Дерзнет ли кто из нас распечатать книгу священническую, запечатанную исповедниками и освященную уже мученичеством многих? Кого вынудили распечатать ее, те после запечатали ее наконец, осудив обман [ [13] Разумеются епископы, которых император Констанций вынудил отречься от православия в Аримин (в 359 г.), и которые после раскаялись в этом и осудили богохульства ариан.
], а кто не дерзнул тронуть ее, те стали исповедниками и мучениками. Как можем мы отвергать веру тех, чью победу прославляем.» Да, прославляем, досточтимейший Амвросий, действительно, говорю, прославляем и, прославляя, дивимся. Ибо кто столь безумен, что не возжелает, при бессилии совершенно уподобиться, следовать тем, кого ничто не отторгло от защиты веры предков, — ни угрозы, ни ласкательства, ни жизнь, ни смерть, ни Двор, ни воинство, ни император, ни империя, ни люди, ни демоны? — тем, говорю, кого [ [14] Разумеются: св. Афанасий Великий, Иларий Поатьерский, св. Амвросий Медиоланский и проч.
] за приверженность к боголюбезной древности сподобил Господь такого дара, что чрез них восстановил Церкви повергнутые, оживил народы, умершие духовно, возвратил достоинство священникам изверженным, изгладил непотребные пачкания, а не писания, недавнего нечестия свыше стекшим к епископам источником слез верующих; наконец весь почти мир, потрясенный свирепой бурей внезапной ереси, отвлек от недавней неверности к древней вере, от нового сумасбродства к древнему здравомыслию, от новой тьмы к древнему свету? Но в этой сверхъестественной силе исповедников мы должны заметить особенно то, что они в отношении к самой древности церковной взялись тогда защитить не часть какую–нибудь, но всеобщность. Да и не пристойно было, чтобы такое множество знаменитых мужей защищали с великим усилием ошибочные и несогласные между собою догадки одного или двух человек, или же подвизались за какой–либо безрассудный замысел какой–нибудь области: напротив, следуя решениям и определениям всех священников святой Церкви, наследников апостольской и кафолической истины, они пожелали лучше самих себя предать, нежели древнюю всеобщую веру. От того–то и сподобились они приобрести такую славу, что их достойно и праведно почитают не только исповедниками, но и первыми из исповедников.
VI. Итак велик, поистине сверхъестествен и достоин того, чтобы неутомимо размышлял о нем всякий истинный православный, пример блаженных мужей тех! Они, подобно седмисвещному светильнику, седмеричным лучезарным светом Святого Духа предначертали потомкам достопримечательнейший образец того, как сокрушать впредь авторитетом освященной древности дерзость непотребной новизны в отношении к каждому суесловию заблуждений. Но это отнюдь не новость. В Церкви всегда процветал обычай, что чем боголюбивие был кто, тем скорее выступал против новых вымыслов. Примеров на это весьма много везде. Но, чтобы не говорить много, мы позаимствуем один какой–нибудь пример и лучше всего из истории апостольского престола, дабы яснее дня видно было всем с какой силой, с каким усердием, с каким жаром защищали всегда целость однажды принятой религии блаженные преемники блаженных Апостолов. Некогда почтенной памяти Агриппин, епископ Карфагенский, вопреки Божественному Канону, вопреки правилу ( regula ) всеобщей Церкви, вопреки мнению всех сосвященников, вопреки обычаю и уставам предков, первый из всех смертных выдумал, что еретиков, возвращающихся в общение с Церковью, надобно перекрещивать. Высокоумие это наделало столько зла, что не только для всех еретиков послужило образцом к поруганию святыни, но и некоторым из православных подало повод к заблуждению. Тогда против новости этой заговорили со всех сторон, и все священники, каждый со свойственным ему тщанием, оберегали себя от нее. Тогда же преимущественно пред прочими товарищами своими, хотя и вместе с ними, противостал предстоятель апостольского престола блаженной памяти папа Стефан, поставляя себе, как полагаю, в честь — превзойти всех прочих преданностью вере настолько, насколько превосходил их важностью места [ [15] Так прп. Викентий, глубоко уважая любовь Стефана к вере и чтя в нем мученика за нее, старается оправдать его в порывах высокомерия, обнаруженных им в споре о принятии еретиков в общение с Церковью и в свое время строго обличенных достойными его современными святителями.
]. Наконец, в письме, посланном тогда в Африку, он определил следующее: «да не вводится ничего нового, кроме того, что предано» [ [16] Означенное письмо Стефана не дошло до нас; но приведенное из него изречение сохранилось у св. Киприана (твор. т. 1, с. 301–302. Киев, 1860 г.).
]. Святой и благоразумный муж понимал, что правило благочестия — допускать только то, чтобы все, принятое отцами по вере, верою же запечатлено было и от сынов, что наш долг — не религию вести, куда захотели бы, но следовать, куда она поведет, и что христианской скромности и достоинству свойственно не свое передавать потомкам, но хранить принятое от предков! Какой же был тогда исход всего дела? — Какой другой, кроме общепринятого и обыкновенного? Именно: древность была удержана, а новизна отвергнута. Но тогда, может быть, ничто не покровительствовало означенной выдумке? Напротив, на ее стороне было столько сильных дарований, такое обилие красноречия, так много защитников, столько имоверности [ [17] Имоверность — правдоподобие или сбыточность. Даль, т. 2, с. 96.
], столько вещаний из Божественного Закона, только понятых, разумеется, на новый и худой лад, что ее, по моему мнению, никоим образом нельзя было опровергнуть; разве уж сами изобретшие и защищавшие ее с таким усилием сознались бы, к чести своей, в ее новизне. Что же наконец последовало? Какое влияние имели самый собор африканский [ [18] Третий, постановивший перекрещивать еретиков, возвращающихся в общение с Церковию. Бл. Августин. De baptizm contr. Donat. Lib 11 et. III: opp. t. IX, p. 63–82.
] или решение его? По милости Божией, никакого; но все, как сновидения, как басни, как нелепости, отменено, отвергнуто, попрано. И, — о чудный оборот обстоятельств! Виновники того мнения признаются православными, а последователи — еретиками, учителя разрешаются, а ученики осуждаются, писатели сочинений будут сынами царствия, а защитники оных подвергнутся геенне. Ибо кто столь безумен, что усомнится в том, что светило всех святых, епископов и мучеников, блаженнейший Киприан, и прочие товарищи его будут царствовать со Христом во веки? Или, напротив, кто столь нечестив, что станет отрицать, что донатисты и прочие заразители, хвастающиеся тем, что перекрещивают по авторитету собора того, навсегда будут гореть с диаволом?
Читать дальше