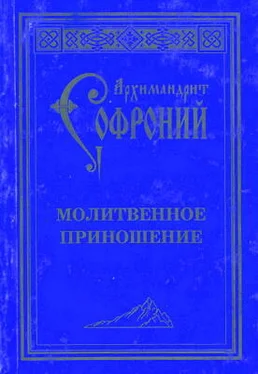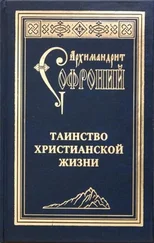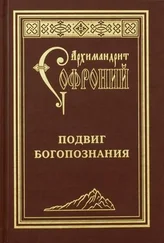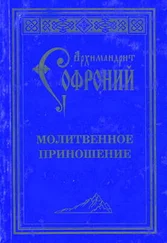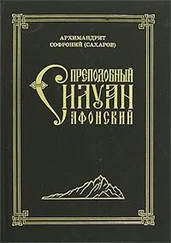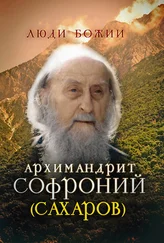В опыте старца молитва была живым общением с Живым Богом, и как таковая, она принимала бесконечно разные формы, соответствующие разным состояниям молящегося. Он говорил: «Всегда начинайте молитву, рассказав Богу о своем положении». Как глубоко личный и интимный акт, молитва не подлежит никаким внешним законам или ограничениям, она должна быть внутренней бытийной необходимостью и должна совершаться в духовной свободе. Поэтому уставная молитва в его глазах имела лишь предварительное, педагогическое значение, несомненно ценное, особенно в начале, для того, чтобы проникнуться правильным молитвенным духом Православной Церкви, однако далеко недостаточное для того, чтобы довести человека до состояния мужа совершеннаго, в меру полнаго возраста Христова , для того, чтобы Бог был вся во всех. «Молитва – есть внутренний акт нашего духа. Выражаться он может в самых различных формах. Нередко и даже, может быть, особенно часто в молчании нашем пред Богом. Молчим, потому что Бог ведает всю глубину нашей мысли, все чаяния нашего сердца, а выражать их словами мы не всегда способны. Бог же разумеет тайные движения нашего сердца и отвечает на них... Предстоять пред Богом – вовсе не значит стоять перед иконами, но чувствовать Его в своем глубоком сознании как наполняющего Собою все. Жить Его как воистину Первую Реальность, после которой следует мир, в порядке низшей, второй, производной, тварной реальности. Для этого может быть пригодным всякое положение тела: лежачее, ходячее, сидячее, стоячее и тому подобное». [1] Архимандрит Софроний. Письма в Россию. Москва-Эссекс, 1997. С. 55-56
Именно поэтому старец не любил давать молитвенных правил. Он до конца доверял каждому человеку, видя в нем самые совершенные, самые высшие потенциальные возможности, и хотел через эту свободу довести каждого до осознания личной ответственности перед Богом. «Чтобы найти верный путь, лучше всего просить об этом Бога в молитве: “Господи, Ты сам научи меня всему. Дай мне радость познания воли Твоей и путей Твоих. Научи меня воистину любить Тебя всем моим существом, как Ты заповедал нам. Устрой мою жизнь так, как Сам Ты в предвечном совете Твоем мыслил о мне... да, даже о мне, ибо Ты никого не забыл и никого не создал на погибель. Я безумно растратил(а) данные Тобою мне силы, но теперь, при конце моей жизни, Ты все Сам исправь, и Сам всему научи меня, но так, чтобы действительно Твоя воля совершилась в жизни моей, разумею я о том, или не разумею до времени. Не попусти меня ходить чужими путями, ведущими во тьму, но прежде чем усну смертным сном, дай мне, недостойному(ой), увидеть Свет Твой, о Свете мира.” И так своими словами молись все о том же. Пройдет некоторое время, и сила слов этих проникнет во внутрь существа твоего, и тогда потечет жизнь сама собою именно так, как хочет Господь, а внешне рассуждая ничего мы не решим». [2] Там же. С. 58-59.
Для старца молитва, будучи вселенским и всеобъемлющим актом — в пространстве и во времени, достигала своей кульминации в совершении Божественной Литургии, ради которой все совершалось и которая являлась средоточием всего дня и источником живой силы для него. «Литургическая молитва с частым причащением — полнота. Правда, для этого необходимо ее жить и разуметь. Тогда откроется, что Литургия объемлет собою всю жизнь нашу; в ней заключены все планы нашего бытия в его обращенности к Богу. Литургия, если только она живется всем нашим существом, дает нам жить ее как воистину Божественный Акт, вмещающий не только весь этот видимый мир, но и выходящий безмерно за его пределы». [3] Там же. С. 57.
Как литургическое священнодействие, его молитва всецело была обращена ко Христу-Спасителю, и через Него к Отцу и Духу Святому. Она непрестанно вдохновлялась видением великого дела спасения мира во Христе, обнимая все бытие — и Божественное и человеческое — в акте жертвенной христоподобной любви. Молитву старца Софрония характеризует то, что она неразрывно связана с его боговидением, с его глубоким и ясным догматическим сознанием. Именно такая молитва есть истинное богословие, по его любимому выражению, как «состояние нашего духа, непосредственно созерцающего небесную действительность, и содержание нашей молитвы», в которой открываются тайны путей ко спасению. Самый яркий и дивный пример тому он усматривал в Евангелии от Иоанна. Поэтому старец безмерно любил молитвы Пятидесятницы, Богородичные Догматики, но особенно Анафору Литургии Василия Великого, на которую он часто ссылался, как на самый совершенный образец того состояния, когда созерцание прелагается в молитвенную форму, которая постоянно питала его собственную молитву.
Читать дальше