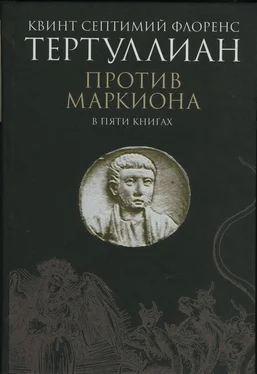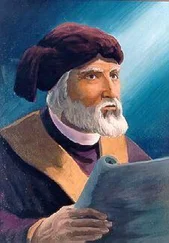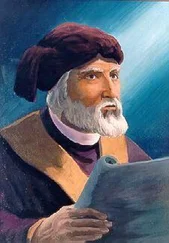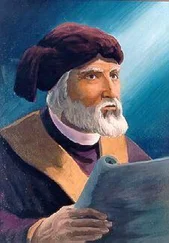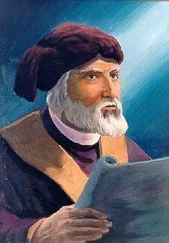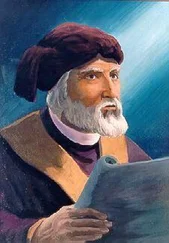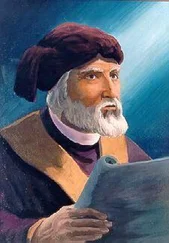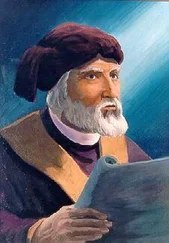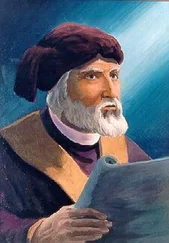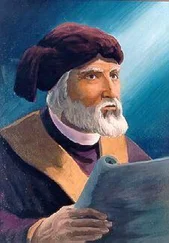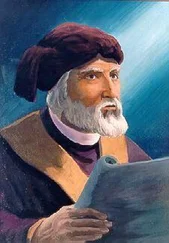Глава 25. Бог не может быть Богом благодаря одной лишь своей благости: у Маркионова бога, напоминающего богов Эпикура, есть, однако, желание, забота, противник и соперничество; но последнее не бывает без гнева и других чувств
1. Что касается вопроса о благости, то мы этими штрихами показали, что она менее всего соответствует Богу как неестественная, неразумная и несовершенная, а также негодная, несправедливая и недостойная самого названия благости, каковое настолько подобает Богу, насколько не подобает, чтобы Богом был тот, кто провозглашается таковым на основании столь ничтожной благости, и не только столь ничтожной, но и ничем более не подкрепленной. 2. Ведь теперь следует уже обсудить и то, должен ли бог считаться богом из-за одной лишь благости. Поскольку отрицается, что <���у него> есть прочие дополнительные свойства, чувства и желания, которые маркиониты отнимают у своего бога в пользу Творца, а мы [и] [225]признаём их в Творце как достойные Бога, мы и на этом основании будем отрицать, что богом является тот, в ком присутствует не всё, что достойно Бога. 3. Ведь если Маркион пожелал назвать Христовым именем какого-нибудь бога из эпикурейского учения, [226]как то, что является блаженным и нетленным и ни себе, ни другим не причиняет беспокойство, [227]— ибо Маркион, твердя это высказывание, лишил <���своего бога> суровости и силы вершить правосудие, — то он должен был или замыслить бога полностью неподвижным и застывшим (и что тогда у него общего с Христом, тягостным для иудеев из-за <���своего> учения, и для самого себя из-за <���принятия плоти> Иисуса?), или признать его подвластным прочим волнениям (и что тогда у него общего с Эпикуром, который не близок ни ему, ни христианам?). 4. Разве из самого того обстоятельства, что, прежде безмятежный, не приложивший никакого усилия, дабы сделаться известным, он по прошествии такого времени обрел для спасения человека способность чувствовать, обрел, разумеется, добровольно, не <���следует, что> он в тот момент подчинился новому желанию и, таким образом, явил себя подверженным и прочим волнениям? В самом деле, какое желание [228]существует без жала вожделения? [Кто желает того, к чему не испытывает вожделения?] [229]Но желанию сопутствует и забота. Кто будет желать чего-либо и испытывать вожделение к этому, но не будет заботиться об этом? 5. Итак, когда он стал желать человеческого спасения и вожделеть, он уже и себе, и другим дал работу, по совету Маркиона, хотя Эпикур и возражает. Ведь и противника он воздвиг для себя, — то, против чего было направлено его желание, вожделение и забота: грех ли это, или смерть; но, прежде всего, < своим противником он сделал > самого их Повелителя и Господина человека — Творца. 6. Далее, при наличии противника ничто не избежит соперничества. Короче говоря, желая, вожделея и заботясь об освобождении человека, Маркионов бог самим этим фактом уже вступает в соперничество и с Тем, от Кого освобождает (собираясь, разумеется, освободить вопреки Ему в своих интересах), и с тем, от чего освобождает (собираясь освободить для иного). При соперничестве же [230]неизбежно появляются его соратники в борьбе с противником: гнев, раздор, ненависть, пренебрежение, негодование, досада, предубеждение, обида. 7. Если все это имеется у соперничества, соперничество же служит делу освобождения, а освобождение человека является деянием благости, то сия благость не сможет обойтись без своего придатка, т. е. без чувств и желаний, которые ей помогают в борьбе с Творцом, дабы ее нельзя было объявить неразумной также и на том основании, что у нее нет должных чувств и желаний. Это я буду доказывать гораздо более основательно при рассмотрении дела Творца, где <���эти Его проявления> оказываются объектом упреков <���со стороны маркионитов>.
Глава 26. Маркионов бог лишь выражает нежелание и запрещает (запрещая, он все равно оказывается судьей), но не карает. Поэтому он оказывается пособником греха и зла
1. Но здесь достаточно, чтобы бог Маркиона был показан порочнейшим в самом провозглашении благости как единственного <���его свойства>, поскольку <���маркиониты> не желают приписать ему те же движения души, [231]которые порицают в Творце. Ведь если он не соперничает, не гневается, не осуждает, не притесняет, поскольку не берет на себя обязанности судьи, то я не вижу, каким образом он может дать воспитание, и притом более совершенное.
Читать дальше