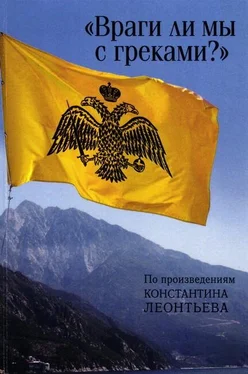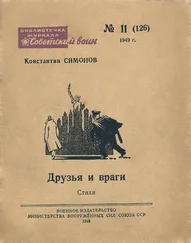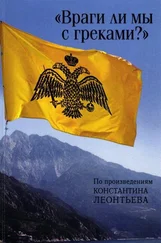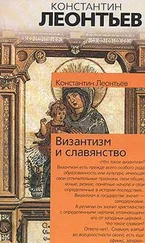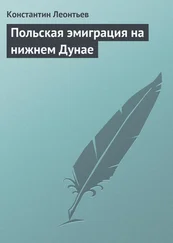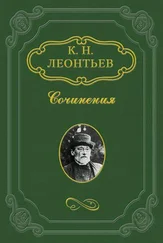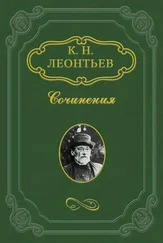„На русскую дипломатию, на русский Синод мы прямо действовать не в силах (сказали болгары): мы подействуем лучше на общество, менее опытное, менее понимающее, менее связанное осторожностью, а общество русское повлияет, может быть, потом косвенно и на Двор, и на Синод, и на здешнюю дипломатию… Когда нет сил поднять тяжесть руками, употребим какой-нибудь более сложный, посредствующий снаряд!“
Так думали, так еще думают, конечно, болгарские демагоги…
Многое они предвидели и знали обстоятельства хорошо. Например, они знали очень хорошо вот что: во-первых, что национальная идея ныне больше в моде, чем строгость религиозных чувств; что в России, например, всякий глупец легче напишет и легче поймет газетную статью, которая будет начинаться так: „Долголетние страдания наших братьев, славян, под игом фанариотского духовенства“…
К тому же у греков кто в России? Купцы или монахи за сбором денег, люди не популярные. У болгар в России студенты, профессора и т. п. люди, которые стоят ближе греков к печати русской, к влиятельным лицам общества мыслящего, к прогрессу, к моде, к дамам Москвы!
Студенты плачут о бедствиях угнетенного, робкого, будто бы простодушнейшего в свете народа. Жинзифовы, Дриновы и подобные им пишут не особенно умно, но кстати и осторожно…
Итак, болгарский народ, увлекаемый и отчасти обманутый своими вождями, начинает свою новую историю борьбой не только противу греков, но, по случайному совпадению, и противу Церкви и ее канонов» [34] Византизм и славянство. С. 113–114.
.
Болгары «хотели иметь экзархат не административный, не топографический в определенных границах, но экзархат племенной , „филетический“, — как выразилось греческое духовенство на соборе 72-го года. Экзархат или даже Патриархию административную, или топографическую, Вселенский Патриарх мог бы им дать и был бы вынужден обстоятельствами сделать это позднее… но болгары желали экзархата „племенного“, т. е. чтобы все болгары, где бы они ни находились, зависели бы прямо и во всех отношениях от своего национального духовенства. Конечно, Патриарх не имел даже и права уступить их желаниям в такой форме ». Он не мог нарушить постановления Апостольских правил, которое гласит: «два епископа во граде да не будут». «Болгары тогда отделились самовольно; а собор объявил их отделенными, т. е. отщепившимися, отщепенцами, „раскольниками“… Вот и всё» [35] Дополнение к двум статьям… С. 81.
.
Леонтьев пишет, что простолюдины болгарские менее развиты умом, чем греческие. Старшинам их легко удалось обмануть и уверить, что «раскол — не раскол, что Россия сочувствует болгарам безусловно, что весь мир за них и т. п. Греки образованнее и гораздо богаче. Но за болгар мода этнографического либерализма, за них должны быть все прогрессисты, атеисты, демагоги, все ненавидящие авторитет Церкви или не вникающие в ее дух (а сколько этих не вникающих!)» [36] Византизм и славянство. С. 113.
.
Болгары « искали раскола преднамеренно , искусно и упорно раздражая греков, и добились того, чего искали. А греки, увлекшись гневом и надеждами на помощь Англии , воображали, что Святейший русский Синод сделает грубую ошибку и официально заступится за болгар… сделали политическую ошибку; они дали посредством полного отлучения болгарам возможность простирать свободнее прежнего свое национальное влияние до последнего македонского села. Отделенным болгарам никто из греков явно и законно уже мешать не мог…
Эллинизация болгар до Балкан и великая идея греков стала после этого невозможностью» [37] Храм и Церковь. С. 165–166; Враги ли мы с греками? С. 157.
.
«Болгары все вместе под Турцией», а греки делятся на «свободных эллинов» (подданных независимого Греческого государства) и подданных Турецкой империи; «греки разделены между двумя центрами, Афинами и Царьградом, которые не всегда согласны» [38] Византизм и славянство. С. 113.
. Леонтьев пишет, что цареградские греки, именующиеся фанариотами, духовенство и миряне (в особенности духовенство), это люди, «которых даже прямые личные интересы теснее, чем у кого-либо другого связаны на Востоке со строгостью православной дисциплины, со строгостью православных преданий, православных уставов, православных чувств» [39] Письма отшельника. С. 168.
. У афинских же греков, напротив, на первом месте чувства племенные.
Если нация — есть плоть, а ее идея — дух, то по закону духовному плоть противится духу. Для господства духа она должна быть ограничена, сдержана, закрепощена. Свобода тела человека низводит его на уровень животного. Свобода, раскрепощение нации обращает ее к «новой религии» земного вседовольства, приводит все к тому же космополитическому однообразию: гражданское равенство, политическая и личная свобода, смешение племен и сословий, освобождение от уз церковных, семейных, общественных и пр. Приводит к разрушению того, «что было создано прежде и потом с горячей любовью и непоколебимо сохранялось целые века» [40] Леонтьев К. Н. Письма о восточных делах / ВРС. С. 358.
. Такое освобождение «чисто национальное», или, по леонтьевской терминологии, «племенное» [41] Письма отшельника. С. 175.
, дает плоды вовсе не национальные, а революционные: «Оно обмануло всех самых опытных и даровитых людей… Даже наши славянофилы не узнали в так называемом национальном движении своего злейшего врага: космополитическую революцию » [42] Письма о восточных делах. С. 358.
.
Читать дальше