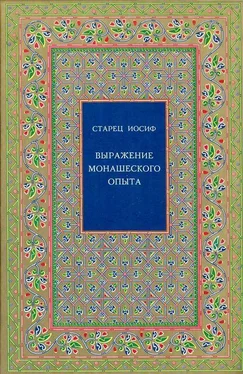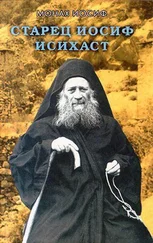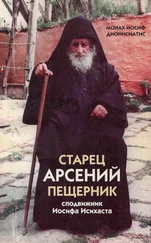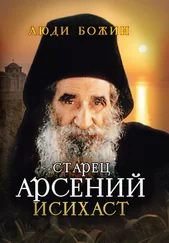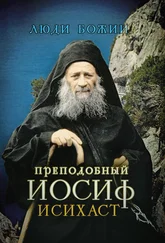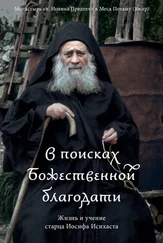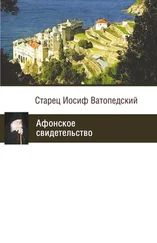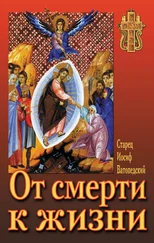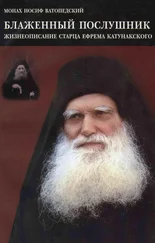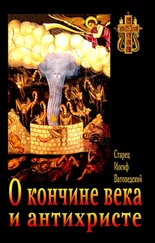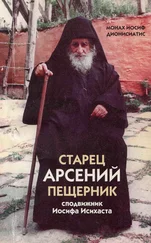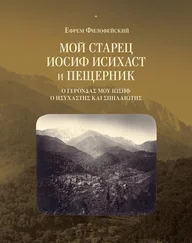Для тех, кто не имеет соответствующего опыта, а лишь начинает учиться этому деланию, такое положение бывает болезненным, поскольку, согласно Писанию: «Аз же рех во обилии моем: не подвижуся во век… Отвратил же еси лице Твое, и бых смущен». [304] Пс. 29, 7–8.
Грешный, помраченный и порабощенный страстями человек испытывает великое счастье, когда очутится как бы посреди рая и вкусит таинств Жизни Вечной и Воскресения мертвых. Когда же он внезапно обнаружит, что вновь облечен в «одежды кожаные», [305] Ср.: Быт. 3, 21.
то остается безутешным. Все в этом мире чуждо для него, ничто не дает утешения. Считая, что удаление благодати произошло по его вине, он достигает глубины смирения, так что слезы становятся для него хлебом день и ночь, [306] Пс. 41, 4.
и воздыханиями неизреченными он исповедуется и молится: «Просвети лице Твое, и спасуся». [307] Пс. 79, 4.
И Божественная благодать, подобно любящей матери, не замедляет снова утешить плачущего своим ощутимым явлением, влагая в его уста новую песнь: «Господи мой, Господи, растерзал еси вретище мое и препоясал мя еси веселием». [308] Пс. 29, 12.
Такой образ действия благодати, то являющейся, то удаляющейся, продолжается на данном этапе духовной жизни до той поры, пока подвижник не получит достаточной подготовки: слезы радости и счастья, вызываемые явлением благодати, сменяются у него слезами боли и горечи от ее удаления и отсутствия. Хорошо, если такой монах находится рядом с опытным старцем или, по крайней мере, каким‑нибудь близким человеком, имея возможность подробно исповедовать свое состояние, чтобы избежать будущих бед, которые должны последовать из‑за его неопытности и коварства бесов. Дело в том, что от усилий подвижника, сколько бы он ни старался, не зависят ни способ действия Божественной благодати, ни ее присутствие, ни отсутствие, разве что в том случае, если он — увы! — забудет о внимании и точном соблюдении своего распорядка, в то время как нужно потрудиться, чтобы вновь обрести прежнее состояние.
При нормальном действии подвижника и благодати к нему постепенно приходит преуспеяние. Человек возрастает, мало–помалу приобретая чувства, которые «приучены к различению добра и зла», [309] Евр. 5, 14.
если только ему во всем сопутствует смиренномудрие. Но, к несчастью, здесь‑то и подстерегает его сеть. «Горе городу, царь которого юн», — говорит царь Соломон. [310] Еккл. 10, 16.
Это относится к молодой и неопытной душе, когда она получает избыточное богатство и забывает свою меру. С сатанинской изощренностью в уме укореняется мысль, что это является достижением его собственных способностей, которого другие по справедливости лишены из‑за своего нерадения! Хотя это состояние и считается, по сравнению с совершенством и бесстрастием, предварительным, однако оно кажется не малым и не ничтожным уму, который восстал из нечистот страстей и, купаясь в тихих волнах благодати, вкушает таинства Божественной любви.
Как рассказывает нам приснопамятный старец, это духовное состояние, если внимание и усилия подвижника не встретят препятствий, продолжается и, соответственно, усиливается в течение трех–четырех лет. Однако этого достаточно, чтобы прельстить невнимательных и невежественных мыслью, что они будто бы достигли меры преуспеяния. Пресыщение почти естественно для нас, бренных и ничтожных, если отсутствует кормчий — «ум Христов». [311] Ср.: 1 Кор. 2, 16.
Существует два вида опасности и вреда, из которых один хуже другого. Первый из них — это самонадеянность, второй — эгоизм. Оба они губительны и наносят вред. «О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что» я сделался немощен не только слухом, [312] Ср.: Евр. 5, 11.
но и произволением.
Можно задаться вопросом: как же сосуществуют свет и тьма, добродетели и пороки, благодать и прелесть? «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». [313] Ин. 1, 5.
Святые отцы приводят следующий пример, относящийся к этому состоянию: человек, находящийся в становлении, подобен стоящему в час восхода солнца лицом на восток, так что лишь его лицо освещается и согревается в полной мере, спина же остается в тени. Неопытный и не имеющий понятия о вышеестественных тайнах и лукавстве диавола, особенно когда рядом с ним нет старца–духовника, попадает на скользкий, но кажущийся спасительным путь прелести. Конечно, здесь скрывается некое глубочайшее таинство, связанное с осуществлением замыслов спасительного Промысла Христова, который допускает это ради нашего спасения по причине человеческого несовершенства. Людей, совершенных по человеческим меркам, ничтожно мало, большинству же свойственны слабости и недостатки. Это, однако, не мешает Промыслу Божию по–отечески призывать всех к совершенству по благодати. Среди этих слабостей обычно бывает отсутствие рассуждения, так как человек, лишенный «совершенства по благодати», не может прийти к правильному суждению о вещах. По справедливости рассуждение названо «самой большой добродетелью».
Читать дальше