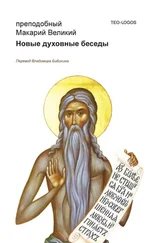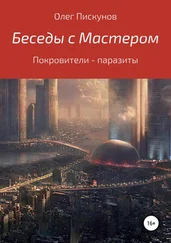В монашеском общежитии, в идеальном порядке, ставится целью достижение того единства, о котором молился Христос: «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино»( Ин.17:21); то есть по образу единства Святой Троицы. Един есть Бог, но единый в трех Ипостасях-Лицах; и по словам откровения Св. Библии: «сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию»( Быт.1:26), нужно увидеть, что в безначальном уме Творца нашего человек задуман как один, единый, но в большом числе ипостасей. В этом чудном единстве каждый, в каком-то смысле, внутри своей ипостаси является центром всего: все и всё — для него. Он же все свое и всего себя отдает для всех и каждого. Нет ни большего, ни меньшего. Каждый, нося в молитве своей всех членов общины, стремится достигнуть того, что поставлено перед нами как заповедь: «любить ближнего, как самого себя»(см. Мф.22:39), то есть как «свою» жизнь. Если члены монашеской общины действительно разумно носят в себе сие задание, то они благотворно влияют один на другого в общем подвиге достигнуть единства в Боге. Создается при этом совмещение усилий, тесное сотрудничество, конвергенция в порыве благочестивого творчества, обеспечивающего восхождение в духовную сферу Царства Святой Троицы.
Монашеское общежитие является самым благоприятным условием для расширения нашего сознания до тех пределов, которые поставлены пред нами как конечная цель, как реализация образа и подобия Богу в «человеке-человечестве»: «чтобы они были едино, как и Мы»( Ин.17:11). Подвиг сей, будучи безмерно великим, конечно, не может быть легким. Это есть тот «узкий путь», полный глубоких страданий, о котором говорит Христос (см. Мф.7:14). Всю нашу жизнь мы можем расти, движимые словом и примером Самого Христа, доколе не достигнем «единства веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа»( Еф.4:13).
Спасение состоит в восприятии дара Божественной жизни в ее извечной полноте . Говоря о «полноте», мы имеем в виду ипостасную форму бытия. Полноту мы мыслим как любовь , которой свойственно совершенство познания, и сие в силу общения в самом бытии.
Не вредно повторять, что любовь перемещает жизнь любящего в лицо возлюбленного: существование возлюбленных мною лиц становится содержанием моей жизни. Если я всем моим существом люблю Бога, по смыслу первой заповеди: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем разумением твоим»( Мф.22:37), то я весь целиком пребываю в Нем. И только так Его бытие становится моим . Если я, подобно Христу, «до конца»( Ин.13:1) люблю всех, то бытие всех силою любви делается моим бытием. И это не только в смысле объема содержания, но и качества, через преображение благодатью Божиею моей человечности. И так это явится особым родом нашего пребывания в Боге и Бога в нас. И это есть — живая вечность , то есть персональная, ипостасная.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ДУХА: ОТЕЦ СОФРОНИЙ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ
В начале 90-х в монастырь приехали гости из России: в те годы — явление весьма редкое. Присутствуя на одной из очередных бесед старца с монастырской братией, некто из гостей попросил старца сказать последнее слово о монашестве. Старец, узрев в сей знаменательной встрече Промысл Божий, стал говорить, обращая свое слово ко всей Русской Церкви. Для старца эта встреча была особо волнующей, ибо на протяжении всего своего христианского пути старец глубоко преклонялся пред подвигом мученичества, который понесла Русская Церковь в XX веке. Будучи на пороге своей смерти, старец в тот момент решился открыть то, что ему дано было жить за многие десятилетия в его неотступной молитве за Русскую Церковь, как это было явлено ему Духом Истины. В этой беседе старец со страхом посмел произнести сии дерзновенные слова: «Дух Божий извещает меня об истинности слов моих относительно Русской Церкви и ее богоданного Патриарха. Умоляю вас всех: послушайте слово, которое дает мне Бог и за которое вся ответственность ложится на меня» [193] См.: Архим. Софроний. Беседа № 1 от 31 августа 1992 г. (№ С-43 согл. М тII ). Наст. изд.
. Они прозвучали как исповедь его пред всей Русской Церковью и как завет его всему русскому верующему люду.
Для старца Софрония, как и для его духовного отца и наставника прп. Силуана Афонского, гонимая Русская Церковь являла всему христианскому миру пример мученического подвига в своих страданиях за веру. В послереволюционные годы, созерцая духом мировую битву — веры во Христа Бога с неверием, старец ощущал, что самая напряженная схватка идет в России. Поэтому его молитва за верующих в этой стране была особенно горяча. Однако в Св. Пантелеимоновском монастыре на Афоне, где начал свой монашеский путь отец Софроний, отношение к Русской Патриаршей Церкви было далеко не благоприятным. В лице некоторых ее иерархов и священников афонские старцы видели «предателей» Христа, лицемерно сотрудничавших с атеистическим режимом. В письме к Д. Бальфуру старец тогда писал: «…афонские старцы неблагоприятно относятся к митрополиту Сергию… Я не скрывал своего расположения к Русской Патриаршей Церкви и поэтому подвергся некоторому преследованию» [194] Архим. Софроний. Подвиг Богопознания. С. 214.
. Старец вспоминал, как его вызвали однажды на собрание монахов и потребовали отречения от своих убеждений относительно Русской Церкви. Он молча слушал их обвинения и молился, прося у Бога вразумления и нужного слова. В какой-то момент он услышал в сердце: «Ну… теперь говори!» И отец Софроний стал говорить. Его слова — простые, но исходящие из данного ему свыше опыта — излагали истину как очевидный факт, не подлежащий дальнейшему обсуждению. После этого случая отношение к Русской Церкви в монастыре несколько переменилось. Ныне, в начале третьего тысячелетия, мы стоим пред видимым доказательством истины его слов, засвидетельствованной уже самой историей. Спустя несколько десятилетий, освобожденная от гнета коммунизма, Русская Церковь восстала из пепла как единственный непогрешимый свидетель истины Православия в России, сохранивший верность Своему Основополагателю — Христу. За семьдесят лет атеистической власти «врата ада не одолели ее»(см. Мф.16:18).
Читать дальше
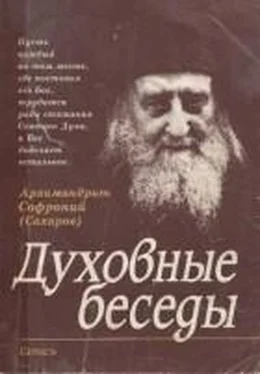
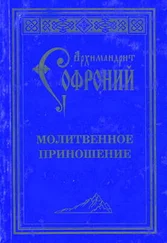

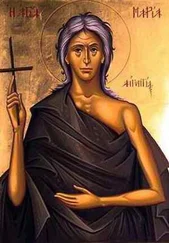

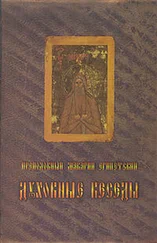
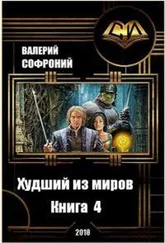
![Валерий Софроний - Худший из миров. Книга 8 [СИ]](/books/432137/valerij-sofronij-hudshij-iz-mirov-kniga-8-si-thumb.webp)