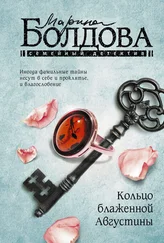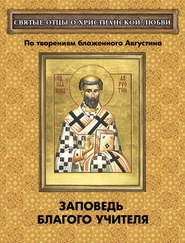И какую пользу принесли мне, достойному сожаления, те поступки, воспоминание о которых заставляет меня краснеть, в особенности то воровство, в котором я полюбил само воровство? Именно – воровство, и ничего более, так как и само оно в себе есть ничто, и потому самому достойнее сожаления. И однако же один я не совершил бы воровства; так по крайней мере уверяет меня мое воспоминание; да, один я никогда не сделал бы этого. Стало быть, мне приятно было в этом деле и сообщество участников в воровстве. Мне нравилось не столько само воровство, сколько нечто иное; именно – нечто иное, потому что воровство само в себе – ничто 7. Что же в самом деле правильнее и вернее? И кто вразумит меня, если не Тот, Кто озаряет светом Своим сердце мое и разгоняет тьму его? И что навело меня на мысль – предаться размышлению об этом, задавать себе вопросы и искать решения их? Если бы я в то время любил плоды, которые воровал, и желал насладиться ими, то я мог бы и один совершить такое беззаконие, для достижения своего личного удовольствия, без участия и возбуждения сообщников. Но так как я не находил в этих плодах удовольствия для себя, то все удовольствие мое заключалось во взаимном сообществе и одобрении участников преступления.
Что это было за расположение души? Конечно, оно было в высшей степени достойно осуждения; и горе мне было, что я имел его. Но что же однако это было? Грехопадения свои кто разумеет? (см. Пс. 18, 13)? Мы смеялись и в душе радовались тому, что обманывали тех, которые не считали нас такими проказниками и вовсе не желали видеть в нас каких-либо пороков. От чего же впрочем находил я удовольствие в совершении воровства не одному, а в товариществе? Не от того ли, что одному не так удобно и не так охотно вдоволь посмеяться? Правда, что одному себе смеяться не приходится; бывают однако с нами случаи, что мы и наедине, когда вовсе никого с нами не бывает, иногда не можем удержаться от смеха, и это бывает с нами тогда, когда что-нибудь представляется или чувствам или душе чрезвычайно смешным. Но я все-таки не решился бы один на воровство и всеконечно не произвел бы его один. Свидетелем тому перед Тобою, Боже мой, служит живое воспоминание души моей. Один я не совершил бы этого воровства, в котором источник удовольствия был не предмет, а само действие воровства; не сделал бы, говорю, потому что во мне вовсе не было к тому желания, и я не сделал бы его один. О пагубное товарищество, о необъяснимое увлечение ума и непонятное обольщение сердца – желание вредить и причинять урон другому из-за одних шуток и забав, без всякой собственной пользы и без всякого побуждения к какой-либо мести, а просто-напросто, как говорится: пойдем, подебоширим; и стыдно становится не быть бесстыдным.
И кто распутает все эти узлы, все эти извилины, все эти запутанности путей неправды и беззакония, так трудных к разгадке? Отвратительны они; и я не хочу более углубляться в них, не хочу более останавливать на них взора своего. К Тебе стремлюсь и Тебя жажду, Правда и Святость Вечная, в благолепнейшей красоте чистейшей светлости и неисчерпаемого довольства. Покой у Тебя ничем не возмутим, и жизнь у Тебя безмятежна. Кто входит в дом Твой, тот входит в радость Господа своего (Мф. 22, 21, 23), и тогда нечего ему уже бояться, и благо ему будет у Благого. Уклонился я от путей Твоих и пошел по распутиям, Боже мой; отошел от Тебя в страну далече, подобно евангельскому юноше блудному, и блуждал там вдали от Тебя в юности моей; оставив дом отеческий, я скитался в стране отчуждения и лишения (см. Лк. 14, 11–32).
Воспоминание о семнадцатом, восемнадцатом и девятнацатом годах того же возраста (юношеского), проведенных в Карфагене, где, доканчивая свое образование, Августин увлекся в дела лобострастия и впал в ересь манихеев. – Ясный взгляд Августина на погрешности и нелепости манихеев. – Матерние о нем слезы и свыше последовавший ответ о его обращении.
Я прибыл в Карфаген; и стали обуревать меня пагубные страсти преступной любви.
Еще не предавался я этой любви, но она уже гнездилась во мне, и я не любил открытых к тому путей. Я искал предметов любви, потому что любил любить; прямой и законный путь любви был мне противен. У меня был внутренний глад пиши духовной, – Тебя Самого, Боже мой; но я томился не тем гладом, алкал не этой пищи нетленной: не оттого, чтобы не имел в ней нужды, – но по причине своей крайней пагубной суетности. Больна была душа моя, и, покрытая струнами, она жалким образом устремилась к внешнему миру в надежде утолить жгучую боль при соприкосновении с чувственными предметами. Но если бы эти предметы не имели души, они могли бы быть любимы. Любить и быть любиму было для меня приятно, особенно если к этому присоединялось и чувственное наслаждение. Животворное чувство любви я осквернял нечистотами похоти, к ясному блеску любви я примешивал адский огонь сладострастия, и несмотря на такое бесчестие и позор, я гордился и восхищался этим, в оспеплении суетности представляя себя человеком изящным и светским. Словом, я пустился стремглав в любовные похождения, которых так жаждал, и совершенно был пленен ими. Милосердный Боже мой! Какою горькою и вместе спасительною желчью растворял Ты для меня эти пагубные удовольствия мои! Чего я не испытал? Я испытал и любовь и взаимность, и прелесть наслаждения, и радостное скрепление гибельной связи, а вслед затем и подозрение, и страх, и гнев и ссору, и жгучие розги ревности.
Читать дальше