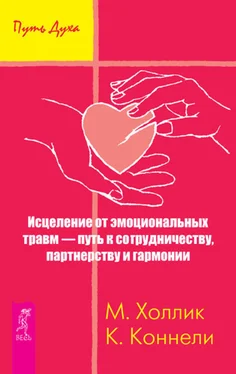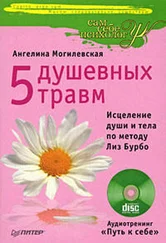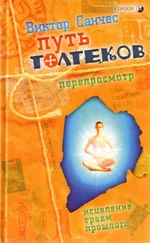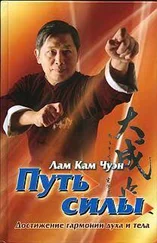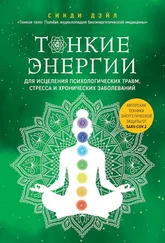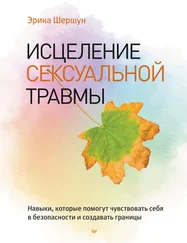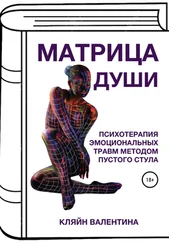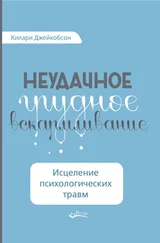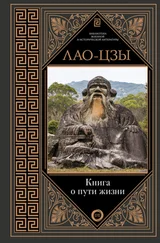Сотрудничество и распределение
Сообщества охотников-собирателей основывались исключительно на сотрудничестве: еда и имущество разделялись поровну между всеми членами группы, вне зависимости от родственных связей. Такой образ жизни освящался глубокой верой в то, что люди не одиноки, а связаны между собой подобно органам единого организма. С этой точки зрения, не поделиться, не наладить отношения означало навредить самому себе. Подобное поведение наблюдается и среди современных высших приматов. Если в стаде шимпанзе кто-то получает рану, остальные глубоко печалятся и переживают. Так же как древние люди, они делятся едой, вычесывают друг друга, заботятся о старых и беспомощных родственниках. Драки в группах, как правило, заканчиваются примирением, на которое агрессор часто идет первым [124]. Наши дети, особенно в раннем возрасте, ведут себя точно так же – проявляют сочувствие и альтруизм. Элисон Гопник, профессор психологии, так описывает поведение четырнадцатимесячных детей: «Если они видят, например, что экспериментатор тянется за ручкой, которую не может достать свободно… они начинают бродить по комнате, залезают на подушки, пытаясь взобраться повыше и помочь. Если кому-то больно, дети не просто расстраиваются, но, опять же, пытаются облегчить боль пострадавшему, гладят и целуют его» [125].
Эти данные заставляют предположить, что сотрудничество заложено в наших генах. И такое предположение подтверждается следующим наблюдением: при успехе совместной деятельности в мозгу вырабатывается «гормон счастья». Последние исследования такого явления, как альтруизм, показали, что и чувство справедливости у нас врожденное. Большинство из нас готовы пожертвовать личной выгодой, чтобы наказать нечестное поведение – например, отказаться от сотрудничества, даже если нас самих это не касается [126]. Поддерживают сотрудничество и социальные факторы. Люди охотнее сотрудничают друг с другом, если знают, что им предстоит встретиться еще раз. Тем же, кто создал себе репутацию хорошего партнера, чаще оказывают помощь, когда они в ней нуждаются. Взаимное доверие не менее важно, как и способность распознать и наказать «трутня» – того, кто пользуется результатами труда группы, не прикладывая к общему делу никаких усилий. Все это, несомненно, справедливо и для тесно сплоченных групп охотников-собирателей, где потребность в одобрении и общественное осуждение были, вероятно, достаточно сильными механизмами, чтобы сделать «трутней» редким исключением. По словам Эвелин Линднер, «сотрудничество – это самый грамотный вид эгоизма» [127].
Несмотря на все эти факты, несмотря на то, что благополучие современной цивилизации во многом основано на добровольном сотрудничестве, ученые считают, что в душе мы – эгоистичные индивидуалисты и делаем все лишь для собственной выгоды, в крайнем случае – для близких родственников. В этом же ключе высказывается философ Марк Роулендс, утверждая, что эволюцией человеческого мозга двигало желание обманывать, манипулировать и использовать друг друга в своих целях [128]. Теоретики эволюции затрудняются объяснить, как альтруизм по отношению к незнакомцам смог закрепиться в процессе естественного отбора, ведь такое поведение как будто бы не увеличивает шансов на продолжение рода. Но факт остается фактом: альтруизм и сотрудничество – это наши с вами неотъемлемые черты.
Социальные взаимоотношения охотников-собирателей
Как показывают наблюдения за современными сообществами охотников-собирателей, у них, как правило, не бывает бессменных вождей. Не допускается там и использование власти в личных целях, а гордыня, высокомерие и деспотизм караются изгнанием. Решения принимаются совместно на советах старейшин, а в трудных ситуациях, когда возникает потребность в вожде, на эту должность выбирают человека, который наилучшим образом способен помочь племени выйти из бедственного положения. Таким образом, знания, навыки и опыт всех членов группы используются для достижения цели без концентрации власти в одних руках. Прирожденные лидеры, конечно, пользуются уважением, у них есть соответствующие обязанности, но это не дает им особых привилегий и материальных благ.
Такое равноправие в общественном устройстве достаточно удивительно, поскольку для традиционных сообществ нормой считается иерархическая структура с самым сильным самцом во главе, как это наблюдается у шимпанзе и многих других животных. Исключение составляют шимпанзе бонобо, наши близкие родственники. В их группах нет постоянных лидеров, а несколько самок, действуя сообща, могут поставить на место зарвавшегося более сильного самца. Иерархическая структура у них присутствует, но довольно размыта: например, статус самца определяется статусом его матери. Так называемые самки-подростки могут покинуть свою группу и переселиться к соседям, где, чтобы быть в нее принятыми, вступают в сексуальную связь с другими самками [129]. Из этих наблюдений следует, что у людей есть предрасположенность как к иерархическому, так и к эгалитарному социальному устройству.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу