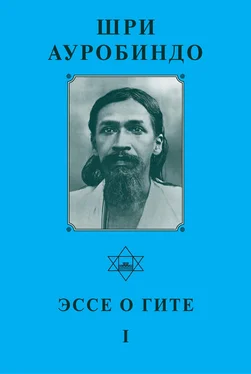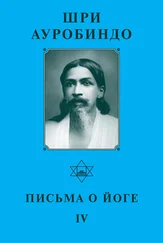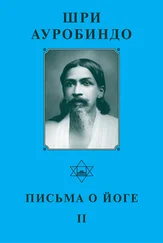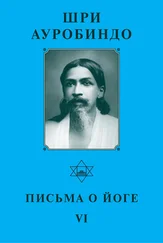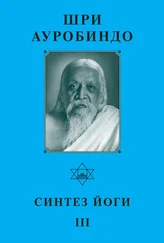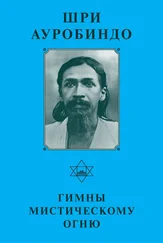Попроси ее подняться из всего этого беспокойства к незамутненной радости чистой души-блаженства, которая все это время тайно поддерживает ее силу в борьбе и делает возможным ее собственное непрерывное существование, – она тотчас же отшатнется от этого призыва. Душа не верит в такое существование или же считает, что это не было бы жизнью, не было бы тем пестрым существованием в окружающем мире, из которого она приучена черпать наслаждение; это было бы нечто безвкусное и пресное. Или она чувствует, что усилия были бы слишком трудны для нее; она отказывается от борьбы восхождения, несмотря на то, что, на самом деле, духовное изменение совсем не более трудно, чем реализация мечтаний, которой добивается душа-желаний, и для ее достижения нужно не больше борьбы и труда, чем для той страстной погони за собственными мимолетными объектами удовольствия и желания, которую ведет эта душа. Истинная причина ее нежелания состоит в том, что душу просят подняться над своей собственной атмосферой и дышать более разреженным и чистым воздухом жизни, блаженство и силу которой она не способна осознать и реальность которой она вряд ли понимает, тогда как единственной знакомой и осязаемой вещью для нее является радость этой низшей мутной природы. Это низшее удовлетворение само по себе не есть нечто злое и вредное; скорее оно представляет собой условие восходящей эволюции нашей человеческой природы из тамасического невежества и инертности, которым наиболее сильно подчинено ее материальное существо; это раджасическая стадия постепенного восхождения человека к высшему самопознанию, силе и блаженству. Но если мы вечно пребываем на этом уровне, madhyamā gatiḥ по Гите, наше восхождение остается незавершенным, эволюция души – незаконченной. Через саттвическое существо и природу к тому, что находится над тремя гунами, лежит путь души к своему совершенству.
Движение, которое выведет нас из тревог низшей природы, обязательно должно быть направлено к уравновешенности ума, эмоционального темперамента, души. Но следует отметить, что, хотя в конце мы должны прийти к превосходству над всеми тремя гунами низшей природы, движение это в своем начале все-таки должно обратиться к той или иной из них. Начало уравновешенности может быть саттвическим, раджасическим или тамасическим; ибо в человеческой природе существует возможность тамасической уравновешенности. Оно может быть чисто тамасическим, тяжким равновесием витального темперамента, ставшего невосприимчивым к ударам существования из-за некоего унылого безразличия, не желающего радости жизни. Уравновешенность может быть результатом усталости от эмоций и желаний, накопленной вследствие неумеренности и пресыщения наслаждением, или, напротив, разочарования, отвращения и уклонения от жизненной боли, апатии, страха, ужаса и неприязни к миру: тогда она по своей природе является смешанным движением, раджасо-тамасическим, но с преобладанием низшего качества. Или, приближаясь к саттвическому принципу, уравновешенность может помочь себе интеллектуальным восприятием того, что желания жизни удовлетворить нельзя, что душа слишком слаба для того, чтобы управлять жизнью, что вся жизнь есть не что иное, как горе и кратковременные усилия, и нет никакой подлинной истины, здравого смысла, света или счастья; это саттво-тамасический принцип уравновешенности, и это не столько уравновешенность, хотя этот принцип и может привести к ней, сколько безразличие или уравновешенный отказ. По существу движение тамасической уравновешенности – это обобщение принципа Природы – jugupsā или самозащищающего отказа, простирающегося от ухода от особо болезненных воздействий до ухода от всей жизни Природы самой по себе, как от ведущей к боли и самоистязанию, а не к тому наслаждению, которого требует душа.
В тамасической уравновешенности самой по себе нет подлинного освобождения; но ее можно сделать мощным отправным пунктом, если, как это происходит в индийском аскетизме, превратить эту уравновешенность в саттвическую посредством восприятия высшего существования, истинной силы, высшего наслаждения неизменного «Я» превыше Природы. Однако естественный поворот такого движения – это скорее поворот к Санньясе, отречению от жизни и трудов, чем к тому союзу внутреннего отречения от желания с продолжающейся деятельностью в мире Природы, который отстаивает Гита. Гита, впрочем, признает это движение и оставляет для него место; она допускает восприятие пороков мирского существования, рождения, болезни, смерти, старости и горя, историческую отправную точку Будды, janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-duḥkha-doṣānudarśanam , как отправную точку отказа, и принимает усилия тех, чья самодисциплина мотивируется желанием освобождения даже в этом духе от проклятия старости и смерти, jarā-maraṇa-mokṣāya mām āśritya yatanti ye . Но чтобы это движение приносило какую-то пользу, оно должно сопровождаться саттвическим восприятием высшего состояния и обретением наслаждения и убежища в существовании Божественного, mām āśritya . Тогда душа через свой отказ приходит к высшему состоянию бытия, возвышающемуся над тремя гунами и свободному от рождения и смерти, старости и печали, и наслаждается бессмертием своего самосуществования, janma-mṛtyu-jarā-duḥkhair vimukto’mṛtam aśnute . Тамасическое нежелание принять боль и усилия жизни само по себе, действительно, является ослабляющим и разлагающим, и опасность проповеди доктрины аскетизма и отвращения к миру одинаковой для всех заключается в том, что она налагает на неподготовленные души печать тамасической слабости и отвращения, ставит в тупик их разум, buddhibhedam janayet , ослабляет непрерывное стремление, уверенность в жизни, энергию усилий, в которых душа человека нуждается для ведения своей спасительной, необходимой раджасической борьбы за власть над окружающей ее средой, на самом деле не открывая ей – ибо она еще не способна к этому – высшей цели, высшего устремления, высшей победы, но в душах подготовленных этот тамасический отказ может служить полезной духовной цели посредством уничтожения их раджасического тяготения, их напряженной озабоченности низшей жизнью, которая мешает саттвическому пробуждению к высшим возможностям. Таким образом, ища убежище в созданной ими пустоте, они способны услышать божественный призыв: «О душа, пребывающая в этом преходящем и полном страдания мире, обратись ко Мне и ищи во Мне твое наслаждение», anityam asukham lokamimam prāpya bhajasva mām .
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу