На третий день тело Царицы предали огню, и мой отец дал имя ребенку. Он назвал дочь Истрою.
- Чудесное имя, - сказал на это Лис. - Просто чудесное имя. Ты уже знаешь довольно по-гречески, так скажи, как ее звали бы на моем языке.
- В Греции ее звали бы Психеей, дедушка, - сказала я.
Младенцы во дворце никогда не переводились; у нас было полно детей дворцовых рабов и незаконнорожденных отпрысков моего отца. Иногда отец в шутку ворчал:
- Похотливые распутники! Порою мне кажется, что этот дворец принадлежит не мне, а Унгит! Вот возьму и перетоплю всех выблядков, как слепых котят! - но на самом деле он испытывал даже нечто вроде уважения к тому рабу, которому удавалось обрюхатить половину наших рабынь, особенно когда у тех рождались мальчики. (Девочки, если Царь не брал их в свой гарем, обычно по достижении зрелости продавались на сторону или посвящались Унгит и уходили жить в ее дом.) Я относилась хорошо к Царице, можно сказать, любила ее, поэтому, как только Лис развеял мои страхи, я отправилась посмотреть на ребенка. Так получилось, что в короткое время ужас оставил меня и на место его пришла радость.
Ребенок был очень крупным; даже не верилось, что его мать была такой хрупкой и маленькой. У девочки была чудесная кожа, словно излучавшая сияние, отсвет которого озарял тот угол комнаты, где стояла колыбелька. Малютка спала, и было слышно, как ровно она дышит. Надо сказать, что мне никогда больше не доводилось видеть такого спокойного младенца. Сзади ко мне подошел Лис и посмотрел через мое плечо.
- Пусть меня назовут дураком, но, клянусь богами, я и впрямь начинаю верить, что в жилах вашего рода течет кровь небожителей, - прошептал он. - Это дитя подобно новорожденной Елене.
Ухаживать за ребенком поручили Батте и кормилице, рыжеволосой мрачной женщине, которая (как, впрочем, и Батта) слишком часто прикладывалась к кувшину с вином. Я отослала ее, едва представилась возможность, и нашла для ребенка кормилицу из свободнорожденных, жену одного крестьянина, здоровую и порядочную женщину. Я перенесла ребенка в свою комнату, и он оставался там вместе с нянькой ночью и днем. Батта с удовольствием переложила заботу о девочке на наши плечи. Царь знал обо всем, но ему было все равно. Только Лис сказал мне:
- Доченька, побереги себя, не изводи столько сил на ребенка, даже если он прекрасен, как бессмертные боги!
Но я только рассмеялась ему в лицо. Кажется, я никогда больше в жизни так много не смеялась, как в те далекие дни. Беречь себя! Да один взгляд на Психею заменял мне ночной сон и придавал мне сил. Я смеялась вместе с Психеей, а Психея смеялась весь день напролет. Она научилась смеяться уже на третьем месяце жизни, а лицо мое стала узнавать на втором (хотя Лис в это так и не поверил).
Так начались лучшие годы моей жизни. Лис души не чаял в ребенке, и я догадалась, что давным-давно, когда грек был еще свободным человеком, у него тоже была дочка. Теперь он и впрямь чувствовал себя дедушкой. Мы проводили все время втроем - я, Психея и Лис. Редиваль и прежде не любила общества Лиса и приходила на уроки только из страха перед Царем. Теперь, когда Царь словно и думать забыл о том, что у него три дочери, Редиваль была предоставлена самой себе. Она вытянулась, грудь у нее налилась, длинные ноги подростка округлились - она хорошела на глазах, но было ясно, что ей никогда не стать такой же красивой, как Психея.
Красота маленькой Психеи - надо сказать, у каждого возраста есть своя красота - была той редкой красотой, которую признают с первой же встречи любой мужчина и любая женщина. Красота Психеи не потрясала, как некое диво, - пока человек смотрел на мою сестру, ее совершенство казалось ему самой естественной вещью на свете, но стоило ему уйти, как он обнаруживал, что в его сердце остался сладкий, неизгладимый след. Как любил говорить наш учитель, красота девочки была "в природе вещей"; это была та красота, которую люди втайне ожидают от каждой женщины - да что там! - от каждого неодушевленного предмета, - но не встречают почти никогда. В присутствии Психеи все становилось прекрасным: когда девочка бегала по лужам, лужи казались красивыми, когда она стояла под дождем, казалось, что с неба льется чистое серебро. Стоило ей подобрать жабу - а она питала странную любовь к самым неподходящим для любви тварям, - и жаба тоже становилась прекрасной.
Годы шли один за другим своим обычным чередом, случались, очевидно, и зимы но я их не помню - в памяти остались только весны и лета. Мне кажется, что в те годы вишня и миндаль зацветали раньше и цвели дольше, чем теперь, и даже неисто вый ветер не мог оборвать их розовые, как кожа Психеи, лепестки. Я смотрела в глаза сестры, голубые, как весеннее небо и вода ручья, и жалела, что я не жена Царя и не мать Психеи, жалела, что я не мальчик и не могу влюбиться в нее, жалела, что я довожусь ей только единокровной сестрой, жалела, что она - не моя рабыня, потому что тогда я смогла бы даровать ей свободу и богатство.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



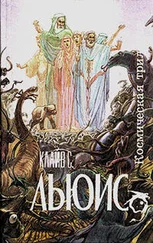
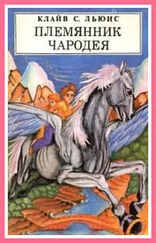
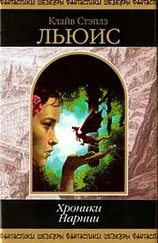
![Клайв Льюис - Космическая трилогия [сборник]](/books/114662/klajv-lyuis-kosmicheskaya-trilogiya-sbornik-thumb.webp)
