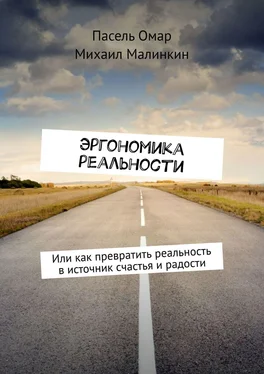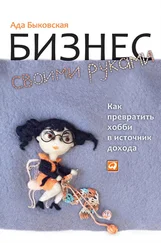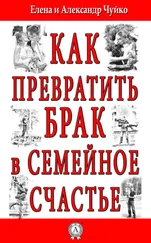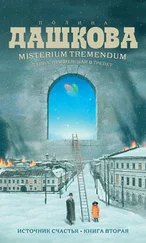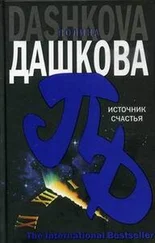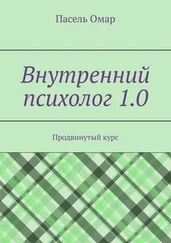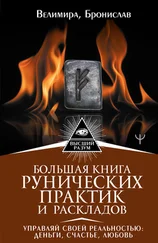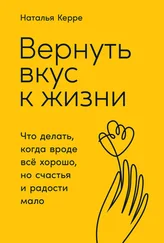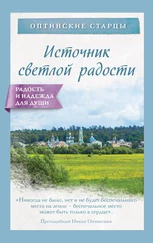Что они собой представляют? По шаманским воззрениям человек состоит из тела и изоморфной (формоподобной) ему души. Душа живет дольше, чем тело, но бессмертна ли она – в шаманизме нет однозначного ответа. Вообще, деление личного бытия человека на телесный и духовный уровень вполне естественно, поскольку напрямую соотносится с циклом бодрствования и сна. Наяву мы представляем из себя ходячую овеществленность, во сне же – неявны и изменчивы. Возможно, шаманом, на определенном этапе, становился человек, который имел естественную склонность к осознанным сновидениям (интересующимся мы советуем прочитать книги Стивена Лабержа – ученого, который один из первых поставил исследования луцидных или осознанных сновидений на научную основу) . В таком состоянии, рано или поздно человек приходит к мысли о наличие двух миров – сновидческого, где он действует и встречается с разнообразными фантастическими персонажами и мира явленного, где спит его неподвижное тело. Шаманская трактовка сознания вполне логичным образом перекочевала в более поздние формы религии, но практический аспект постижения, характерный для мира шаманов, был либо преобразован, либо окончательно утерян, заменившись формальными декларациями явлений. С последствиями такого преобразования мы можем столкнуться и в тибетском буддизме, и в учении Дзогчен, и в специфических видах йоги, где практика сознания и осознанных сновидений играет первостепенную важность, но имеет под собой уже другую идеологическую основу, нежели, чем в самом шаманизме. На первое место стала выдвигаться стройность и логическая законченность религиозного учения, в противовес первобытной стихийности и природности шаманского мировоззрения. Мы можем вспомнить сутры Будды Гаутамы и в них есть что-то от математической законченности. Многие богословские труды в христианстве носят такой же характер.
Параллельно религиозным воззрениям, развивался научный анализ феномена сознания. Конечно, он еще не был свободен от догматов вероучений, но некоторые наблюдения на века опережали свое время. Здесь мы можем вспомнить и древнегреческих философов (Фалес, Гераклит Эфесский, Сократ, Гиппократ, Демокрит), и китайских мыслителей (Конфуций, Чжан Цзай) и римских деятелей (Тит Лукреций Кар). Каждый из них в меру своей наблюдательности вносил что-то новое в зарождающуюся науку о сознании. И даже в Средневековье, когда в христианском мире, всячески подавлялась и искоренялась сама мысль о возможности предметного исследования психики и психических состояний, находились отдельные решительные умы, высказывающие, с точки зрения Церкви, откровенную крамолу.
Начиная с Эпохи Возрождения, уже ведется серьезное исследование человека, его анатомического строения, физиологии и взаимосвязи телесных явлений с психическими процессами. В этот период и позднее закладывается фундамент психофизиологической науки и как следствие – формулируется психофизиологическая проблема.
1.2. Психофизиологическая проблема.
Формулировку вышеозначенной проблемы связывают с именем Рене Декарта, выдающегося французского математика и философа. Декарт первым обратил внимание на то, что психические процессы не могут быть целиком и полностью сведены к физиологическим реакциям, а значит, деление человека на духовный и телесный аспекты правомерно. Его объяснение, конечно, выглядело наивным, но для тех лет являлось весьма передовым. Декарт, сам того не осознавая, выпустил джина из бутылки, который на века лишил покоя многих исследователей. И спустя годы задача по-прежнему выглядит неразрешимой. В частности, Маклаков А. Г., один из видных деятелей психологической науки, в своей «Общей психологии» по этому поводу пишет:
«В чем суть этой проблемы? Формально она может быть выражена в виде вопроса: как соотносятся физиологические и психические процессы? На данный вопрос есть два основных ответа. Первый в наивной форме был изложен Р. Декартом, считавшим, что в головном мозге имеется шишковидная железа, через которую душа воздействует на животных духов, а животные духи на душу. Или, другими словами, психическое и физиологическое находятся в постоянном взаимодействии и оказывают влияние друг на друга. Подобный подход получил название принципа психофизиологического взаимодействия. Второе решение известно как принцип психофизиологического параллелизма. Суть его состоит в утверждении невозможности причинного взаимодействия между психическими и физиологическими процессами. На первый взгляд истинность первого подхода, заключающегося в утверждении психофизиологического взаимодействия, не вызывает сомнения. Мы можем привести множество примеров воздействия физиологических процессов мозга на психику и психики на физиологию. Все же, несмотря на очевидность фактов психофизиологического взаимодействия, существует ряд серьезных возражений против этого подхода. Одно из них заключается в отрицании фундаментального закона природы – закона сохранения энергии. Если бы материальные процессы, какими являются физиологические процессы, вызывались психической (идеальной) причиной, то это означало бы возникновение энергии из ничего, поскольку психическое не является материальным. С другой стороны, если бы физиологические (материальные) процессы порождали психические явления, то мы столкнулись бы с абсурдом другого рода – энергия исчезает. Конечно, на это можно возразить, что закон сохранения энергии не совсем корректен, но в природе мы вряд ли найдем другие примеры нарушения этого закона. Можно говорить о существовании специфической “психической” энергии, но в этом случае снова необходимо дать объяснение механизмам превращения материальной энергии в некую “нематериальную”. И наконец, можно говорить о том, что все психические явления материальны по своей сути, т. е. являются физиологическими процессами. Тогда процесс взаимодействия души и тела есть процесс взаимодействия материального с материальным. Но в этом случае можно договориться до полного абсурда. Например, если я поднял руку, то это есть акт сознания и одновременно мозговой физиологический процесс. Если я после этого захочу ею ударить кого-либо (например, своего собеседника) , то этот процесс может перейти в моторные центры. Однако если нравственные соображения заставят меня воздержаться от этого, то это означает, что нравственные соображения – это тоже материальный процесс. Вместе с тем, несмотря на все рассуждения, приведенные в качестве доказательства материальной природы психического, необходимо согласиться с существованием двух явлений – субъективных (прежде всего фактов сознания) и объективных (биохимических, электрических и других явлений в мозге человека) . Вполне естественно было бы предположить, что эти явления соответствуют друг другу. Но если мы соглашаемся с этими утверждениями, то мы переходим на сторону другого принципа – принципа психофизиологического параллелизма, утверждающего о невозможности взаимодействия идеальных и материальных процессов».
Читать дальше