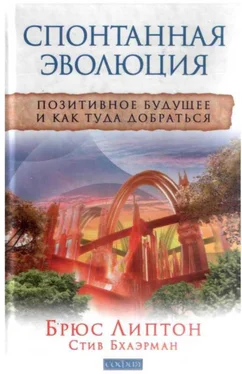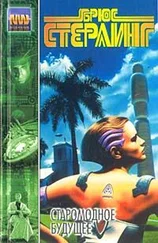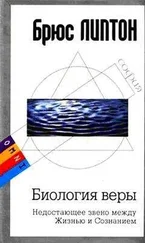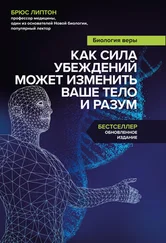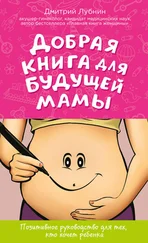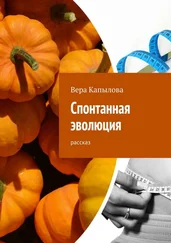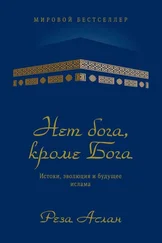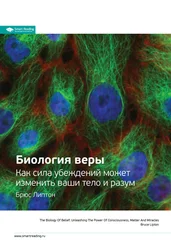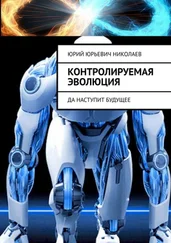Исследования Кэйрнса и других специалистов в области эволюции бактерий, о которых мы говорили выше, демонстрируют, что живым системам свойственна способность пробуждать в себе эволюционные изменения для обеспечения собственного выживания в динамически меняющейся среде. Эти новооткрытые геноизменяющие механизмы носят разные названия: направленная мутация, адаптивная мутация или благоприятная мутация . Но, какой бы термин мы ни использовали, речь идет об одном и том же: эволюционные изменения являются целенаправленными, а не случайными.
В основе эволюции лежит определенный план, который предстает перед нами в форме фрактальной природной среды. В эволюции отмечаются периоды массового вымирания живых существ, которые, очевидно, были обусловлены потрясениями в среде. Эти переломные моменты, называемые периодами нарушения равновесия, то и дело приходят на смену периодам эволюционного застоя. Подвергаясь давлению таких нарушений равновесия в среде, жизнь, благодаря механизмам адаптивных мутаций, ухитряется выживать, эволюционировать и снова приходить к расцвету. Способность осуществлять целенаправленную мутацию собственных генов обеспечила организмам возможность в сложных условиях активно изменять свою генетику, чтобы выжить путем обретения единства и гармонии с новыми условиями среды.
Ранее массовое вымирание животных происходило периодами, вследствие нарушающих эволюционное равновесие природных катастроф. Таких периодов было пять. В результате одни жизненные формы внезапно исчезали, но затем им на смену приходило изумительное разнообразие других форм. Эта модель периодически нарушаемого равновесия ставит под сомнение еще одно фундаментальное допущение теории Дарвина: веру в то, что эволюционный переход от одного вида к другому осуществляется в результате последовательности бесконечно малых трансформаций на протяжении целых эпох.
Как мы уже упоминали выше, палеонтологи Стивен Джей Гаулд и Нильс Элдридж продемонстрировали, что эволюция состоит из долгих периодов стабильности, время от времени нарушаемых катастрофическими потрясениями. Гаулд и Элдридж разработали эволюционную теорию периодически нарушаемого равновесия, согласно которой такого рода катастрофы сопровождаются взрывоподобным возникновением новых видов — и скорость этого процесса намного выше, чем предполагают медлительные дарвинистские механизмы. Иными словами, эволюция движется резкими скачками, а не ползком.
Идеи Гаулда и Элдриджа весьма актуальны на нынешнем этапе нашей эволюции, ибо ученые установили, что сейчас мы вошли в шестой период массового вымирания видов на планете! Вот так-то.
Так что же нас ждет? Лично мы не сомневаемся, что после того, как эволюционная теория будет откорректирована и люди познакомятся с концепциями периодически нарушаемого равновесия, адаптивных мутаций и эпигенетики, нынешнее нарушение равновесия обернется для цивилизации благотворным толчком, который поможет ей двинуться вперед. Если бактерии способны осуществлять целенаправленные мутации, то чем мы хуже? Можем ли мы мутировать осознанно? Ответ: да! Собственно, именно об этом вся наша книга.
От человека к человечеству
Прежде чем посмотреть вперед и понять, куда приведет нас фрактальная эволюция, давайте вернемся в прошлое и вглядимся в историю эволюции через линзу терминов концепции периодически прерываемого равновесия. Исходя из предпосылки, что эволюция представляет собой серию периодов застоя, прерываемых катастрофическими потрясениями, после которых происходят эволюционные скачки, мы можем идентифицировать четыре фундаментальных перелома, радикально изменившие направление эволюции. Если мы поймем закономерности, лежащие в основе этого фрактального процесса, это поможет нам преодолеть кризисные явления, сопровождающие нынешний перелом.
Период прокариотов . Первый скачок состоялся в течение первого полумиллиарда лет после огненного рождения Земли. Именно тогда развились первые примитивные одноклеточные граждане нашей планеты и стали заселять океаны. Эти древнейшие одноклеточные бактерии называются прокариоты ; они представляют собой самые маленькие и самые простые клетки: мембранный мешочек, наполненный «супом» цитоплазмы. Большинство прокариотов имеют внешнюю физическую защиту в виде достаточно плотных сахаристых капсул, окутывающих их хрупкие тельца. Внешние капсулы физически ограничивают размер тел прокариотов, лишая возможности увеличивать площадь мембраны.
Читать дальше