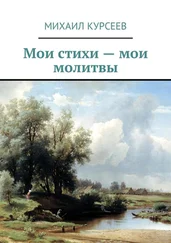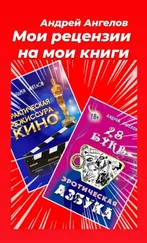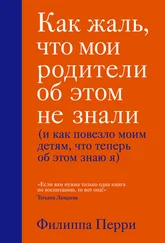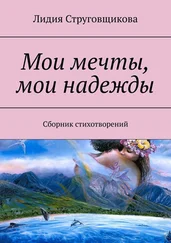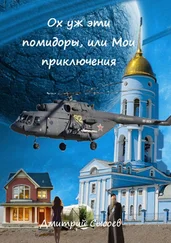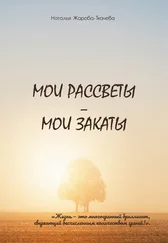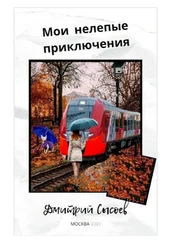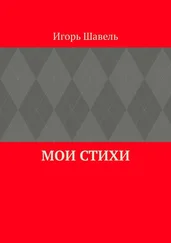Когда месяца через три-четыре я взял в руки уже настоящий, уже живой для меня клинок, один из нескольких клинков отца, по длине и массе наиболее подошедший тогда под мой возраст, собственно, о механике движений я уже знал всё. Техника, которой меня обучали, была, вероятно, ещё рыцарской, для одиночного боя вне строя, или в рассыпном строю, с минимальным расходом сил и энергий, рассчитанной, по всей видимости, на многочасовой бой, хотя, судя по всему, достаточно сильно упрощённой ввиду уже практического отсутствия доспехов. Левая рука, являясь как бы балансиром правой, была слегка отодвинута от корпуса и направлена вниз, явственно ощущая на себе присутствие виртуального щита. Кисть правой руки с рукоятью меча в ней, во время движений была практически неподвижна, лишь слегка изменяя угол клинка по отношению к цели. Сама правая рука крепко фиксировала меч, и в локтевом суставе также была почти неподвижна, лишь поднимая-опуская его в плече относительно требуемой траектории движения клинка. Рука была почти прямая, лишь слегка согнутая в локте, однако в плече могла осуществлять повороты на все 120 градусов с махом в любую сторону. Абсолютно ровная спина, только с абсолютно вертикальным положением позвоночника, находилась как будто на невидимой оси, на которой и была завязана механика всех движений. В управлении клинком во всём диапазоне его движений участвовали мышцы грудной клетки и плечевого пояса, во вращении корпуса — мышцы поясничного отдела, но в осуществлении рубящего удара участвовали уже все мышцы спины и ног, неразрывным потоком энергии перенося на клинок всю мощь корпуса. Странно, но ударов, нацеленных в голову, не было в принципе. От того ли, что ударом о предполагаемый шлем на голове противника древних времён можно было только испортить свой же клинок, то ли от того, что вид обезображенного лица противника, с вылетающими мозгами из его разломанной и изуродованной черепной коробки мог излишне травмировать собственную же психику, такого типа удары даже не рассматривались. Парирование клинка противника считалось возможным только вскользь, и только атакующим ударом, который в то же мгновение, в одно касание, должен был достичь цели. От раскрученного до больших скоростей клинка, атакующий удар противника просто соскальзывал бы, отлетая в сторону. Каких-либо отдельных, чисто парирующих, защитных ударов — не было. Защитные удары, предполагавшие фиксацию, остановку движения, считались просто недопустимыми. Механика боя была очень жёсткой, и вместе с тем плавной, нераздельно связанной с постоянным мягким передвижением, очень динамичной и очень лёгкой. Очередное движение начиналось ещё перед окончанием предыдущего, переходя из почти полного успокоения, будто к феерическим, непредсказуемым сполохам пламени. Фехтовальных выпадов, эффектных стоек, приёмов как таковых — не было. Крайняя скупость движений и крайняя практичность — вот концепция, которой меня учили. В этой школе не было и не могло быть звона клинков, да и никто, находящийся в здравом рассудке, не стал бы рубить в лезвие противника, безнадёжно уродуя свой же меч! Единственная атака должна заканчиваться смертью противника по той причине, что во время атаки обязательно происходило опасное сближение «ва-банк», не реализовав которое ты сам подставлял себя под возможный ответный удар. Но именно это и было сутью, именно так и могла реализоваться максимальная эффективность.
Когда я научился оживлять свой клинок, вдыхая в него жизнь, учитель стал обучать меня практическим ударам на говяжьих и свиных тушах, предназначенных для нашей кухни. Туша подвешивалась на одной или на двух верёвках для отработки ударов соответственно на вращающемся, или ровно движущемся при лёгком раскачивании, теле. Позже, для усложнения условий, туши заворачивались в несколько слоёв сукна, для отработки ударов как по реальному человеку в одежде. Рубил как бы даже и не я, казалось, рубил сам клинок, направляемый только моей волей. И я с удивлением только наблюдал, как при правильно поставленном ударе тонкий клинок, тихо посвистывая свою песенку, легко, без усилий с моей стороны, буквально как масло резал на части эти туши, которые в мясной лавке рубились здоровенным топором с гулким грохотом. В то время услугами мясника мы не пользовались.
Но несмотря на ужасающую мощь этих рубящих ударов, основным элементом были не они, а лёгкие, едва заметные глазу скользящие прикосновения, касания к жизненно важным точкам тела. Эти знания являлись значительно более прогрессивными, чем просто рубка тела на куски, помогая экономить силы и время для достижения лучшего результата. Но чтобы добраться до этих «центров жизни», и приходилось разрубать всё, что стояло на пути клинка к ним. Именно их изучению, тонкому и длительному, мы уделяли много времени.
Читать дальше