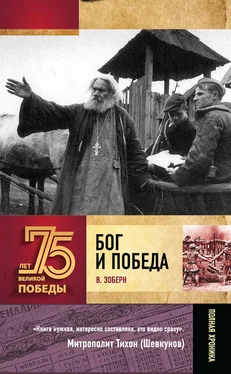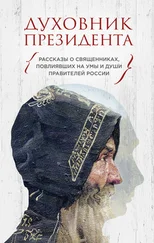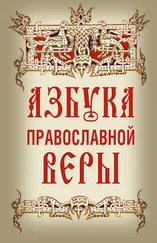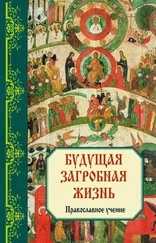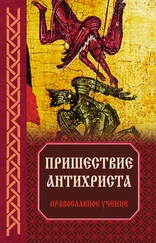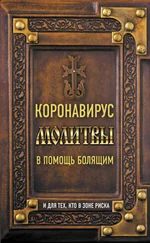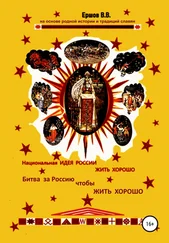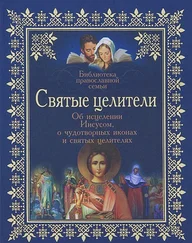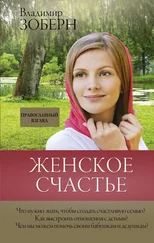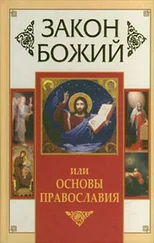И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 года древнерусской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, как хотят удержать в памяти образ умирающей матери сидящие у ее постели дети, собрать ее изображения, показать их друзьям, рассказать о величии мученической жизни» (Д. С. Лихачев. Беседы прежних лет. Из воспоминаний об интеллигенции 1920–1930-х годов).
С 1922 по 1941 год (с перерывом в 1935–1938 годах) издавалась газета «Безбожник» – печатный орган Центрального Совета Союза воинствующих безбожников, закрытая, что знаменательно, в начале Великой Отечественной войны – 20 июля. Причиной создания газеты послужило то, что печально известному Емельяну Ярославскому (Губельману) захотелось организовать лично ему подконтрольный антирелигиозный – читай «кощунственный» – печатный орган. В то время подавляющему большинству советских граждан были непонятны иностранные слова вроде «атеизм» и «атеист», поэтому название было придумано не сразу. «Начать с того, что, когда решался вопрос о названии этой газеты, то были среди нас такие, которые говорили, что надо как-нибудь сделать это заглавие помягче, что «безбожник» – это чуть ли не ругательное слово, стоит ли газете давать такое название. И по сию пору приходится слышать, что «он врет безбожно» и т. д. Товарищ Ярославский, присутствовавший на совещании Московского комитета партии, где решался этот вопрос, напомнил нам: «Коммунисты никогда не скрывают своих убеждений. Зачем? Нужно, чтобы нас знали. Пусть будет название – “Безбожник”» (Логинов М. О. «Как родилось название «Безбожник»). Газета озвучивала лозунги советской власти: «Через безбожие – к коммунизму» и «Борьба с религией – это борьба за социализм».
В тюрьмах, ссылках, лагерях. Священнослужители и миряне – жертвы сталинских репрессий
В 1929 году началась новая волна гонений на русский народ и его Церковь. Был отменен НЭП, начались раскулачивание и коллективизация, в результате чего миллионы крестьянских семей были высланы в Сибирь и на Север. Новые репрессии обрушились и на Церковь. В начале 1929 года Л. Каганович в своей директиве объявил Церковь «единственной легальной контрреволюционной силой», что, естественно, спровоцировало новую волну репрессий. Последовало новое, ужесточенное постановление ВЦИК о религиозных объединениях и началось массовое закрытие церквей, здания которых уничтожались или отбирались государством. Сколько по всей стране церквей, в строительство которых русские люди от души вкладывали посильную лепту, стояли разоренными или переделанными под цех, клуб, склад… Уничтожались до основания даже памятники, имеющие не только религиозную и культурную, но и историческую ценность, как, например, Иверская часовня, про которую писала в стихах М. Цветаева («…там Иверское сердце червонное горит»), или Храм Христа Спасителя, построенный в память о воинах, отстоявших Россию в Отечественной войне 1812 года.
«По всей стране с колоколен снимались колокола под предлогом того, что они мешают слушать радио. Колокольный звон запрещен был в Москве, Ярославле, Пскове, Тамбове, Чернигове.
Иконы сжигали тысячами; в газетах появлялись сообщения о том, как то в одной, то в другой деревне их сжигали целыми телегами; уничтожались иконы древнего письма. Сжигали богослужебные книги; при разгроме монастырей гибли и рукописные книги, археографические памятники, представляющие исключительную культурную ценность, драгоценная церковная утварь переплавлялась на лом» (Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Церкви. 1917–1997).
И все это бесчинное глумление сопровождалось массовыми арестами священников, клириков, верующих мирян, не скрывавших свои убеждения.
«Насколько массовыми были гонения? Вероятно, лучше, чем пересказывать общие исторические данные, приводимые в разных книгах и самиздате, дать несколько бытовых зарисовок, сохранившихся в памяти от тех лет, – писал Глеб Каледа. – В 1929 году я (отцу Глебу было тогда семь лет) задал вопрос маме: “Мама, а почему всех арестовывают, а нас не арестовывают?” Вот впечатление ребенка – почему всех арестовывают, а нас не арестовывают?! Мать ответила: “А мы недостойны пострадать за Христа”.
Все мои пять первых духовников скончались там, в тюрьмах и лагерях: кто расстрелян, кто погиб от пыток и болезней.
В 1931 году, помню, шел разговор между матерью и одной из девушек из общины отца Василия Надеждина (настоятеля храма Св. Николая у Соломенной сторожки). Она говорила:
Читать дальше