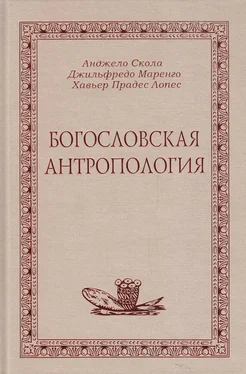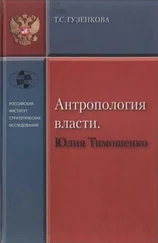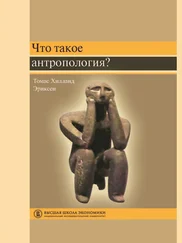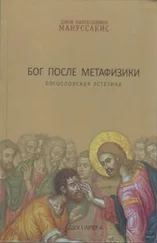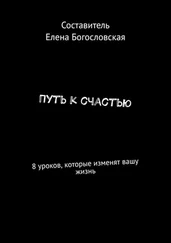2. Перспективы обновления богословской антропологии
а) Откровение как событие
II Ватиканский собор предложил понимание Откровения, решительно преодолевающее альтернативу между истиной и историей. Откровение истины в личности и истории Иисуса из Назарета было признано конкретной формой, в которой Бог сообщает Себя людям (DV 2–6) [34] По удачному высказыванию А. де Любака, II Ватиканский собор заменил «идею абстрактной истины идеей наиконкретнейшей истины, то есть истины как личности, появившейся в истории, действующей в ней, и способной, находясь в самом лоне истории, править всей историей, идеей той Личности-Истины, Которая есть Иисус из Назарета, полнота Откровения» (H. de Lubac, La rivelazione divina e il senso dell’uomo (Opera Omnia 14), trad.it., Milano 1985 (Paris 1968–1983), 49.
. Собор освободил понятие истины от неисторичного и формального понимания, вернув присущую истине идентичность исторического события [35] Известно, что уже I Ватиканский собор проявлял глубокий интерес к теме Откровения: между обоими Соборами в этом пункте нет противоречий, но догматическая конституция Dei Verbum существенно углубила эту тему. Ср. G. Colombo, La ragione …cit., 74–89. Ср. FR 8–10.
.
Исходя из ясно выраженного христоцентризма [36] Ср. G. Colombo, La ragione …cit., 91–106.
, Собор ведет к признанию истины как «события» в Иисусе Христе [37] Ср. J. Ratzinger, Natura e compito della teologia , Milano 1993, 119.
, позволяя увидеть глубокое единство абсолютности и историчности, свободы и необходимости, присущее понятию олицетворенной истины [38] Центральное положение Откровения как олицетворенной истины не означает, однако, что истина не обращена к разуму человека. В этом смысле «антиинтеллектуализм», отрицающий необходимость догматической формулировки, не найдет никакой поддержки в соборных текстах: «Итак, нет противоречия между откровением-познанием и откровением-событием. Сам Собор избежал этой опасности, добавив в той же фразе после «gesta verbaque» [ «действиями и словами» – Прим. пер. ] два слова «doctrinam et res» [ «учение и все, что знаменуется словами» – Прим. пер. ] : интеллектуальный смысл «доктрины» здесь не оставляет никакого сомнения» (De Lubac, La rivelazione …cit., 31).
. Поэтому можно утверждать, что «II Ватиканский собор освободил понятие истины от тенденциозно объективирующего неисторического понимания, возвращая ему его идентичность исторического события. Истина неотделима от события, иначе она формальна» [39] Colombo, La ragione… cit. 80.
.
Это высказывание Учительства Церкви, которое было бы невозможно без значительных усилий богословской мысли до и во время II Ватиканского собора [40] Для изучения исторического развития богословской мысли об Откровении фундаментальное значение имеет труд M. Seybold – H. Waldenfels , La rivelazione (Storia delle dottrine cristiane 1 ), trad. it., a cura di G. Ruggeri, Palermo 1992, содержащий знаменитый текст (выпуски 1a и 1b) из Handbuch der Dogmengeschichte , Freiburg – Basel – Wien, 1971–1977.
, требует соответствующей теологической разработки. Действительно, необходимо трактовать истину, не умаляя роли события Откровения ни с точки зрения его абсолютной истинности (позволив ему исчезнуть в необратимом потоке случайных событий, лишенных абсолютного смысла), ни в аспекте его историчности (рассматривая абсолютное не внутри переменчивой истории, а как абстракцию «абсолютного» разума) [41] Следует отметить, что трудность совместного рассмотрения бытия и истории уже проявлялась в прошлом в попытках частичного решения без одного из этих двух моментов. Ратцингер отмечает, что «для греческого понятия Бога решающим было то, что Он абсолютно не причастен становлению, а следовательно, никоим образом не действует. Его абсолютная неизменяемость подразумевает, что Он пребывает в Самом Себе и соотносится с Самим Собой без связи со всем изменчивым» (J. Ratzinger, Elementi di teologia fondamentale , trad.it., Brescia 1986, 137). С этой точки зрения «время, проявляющее себя в постоянном вращении небесных сфер, вторично по отношению к этой пространственной структуре космоса, «акцидентально» ей. (Id., Storia e dogma, Milano 1971, 38). Сходный, но доведенный до крайности взгляд встречается и в восточных религиозных учениях. С другой стороны, поворот, произошедший в Новое время, имел тенденцию оставить метафизические представления в пользу односторонне исторического понимания реальности: «Конечной целью развития мысли стало не отнесение исторических изменений к неизменной истине Бога, но приведение того, что по видимости неизменно, к созидательному процессу исторических изменений» (ibid., 14). Ср. A. Bellandi, Fede cristiana come «stare e comprendere». La giustificazione dei fondamenti della fede in Joseph Ratzinger, Roma 1996, 276–304.
.
Читать дальше