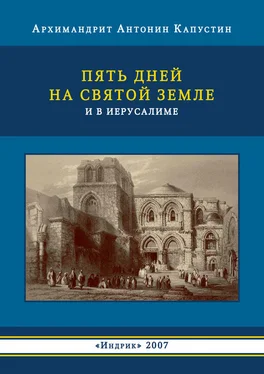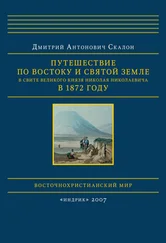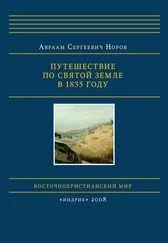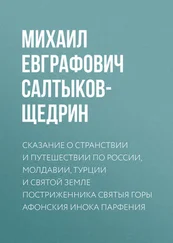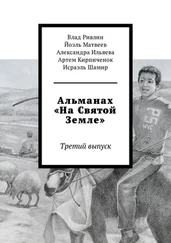С привычною обществу нашему быстротою мы очутились по-прежнему верхом, и, скромно поблагодарив обитель за хлеб-соль, простились с начальником ее, поручив себя его молитвам. Сумрак ночи не позволил мне рассмотреть город. Хотелось видеть древнюю церковь Св. Иоанна Предтечи, обращенную в мечеть. Всякий, чуть различаемый в полусвете купол с окнами я готов был принять за искомую церковь, доколе масса зданий городских не осталась позади нас. Рощи кактусов сопровождали нас еще около версты, после чего мы вступили в открытое поле – продолжение той равнины, которою ехали до Рамли. Около двух часов мы наслаждались самым приятным путешествием, какое только я мог себе представить. Ровная и мягкая дорога, тишина, прохлада, многолюдное общество, свет луны, сладкое чувство сознания себя на священной местности, прилив библейских воспоминаний – все говорило душе радостию и счастьем, какого только можно пожелать дальнему путнику. Мы не встретили на дороге ни одного жилья человеческого. Несколько раз слышавшийся, отдаленный лай собак уверял, впрочем, что благодатная земля не лишена и оживляющего присутствия человека. Поверхность земли постепенно и чуть заметно возвышалась. Темная полоса гор начинала уже мало-помалу выявляться отдельными очертаниями, хотя все еще неясными. Взобравшись на один холм, мы почувствовали свежесть горную. И точно это был предел равнины. Черневшая влево неровность носила имя Латруна. Так как латрон (latro) значит: «разбойник», то и составилось мнение, что здесь была родина одного из разбойников, распятых вместе с Господом, и притом разбойника, висевшего одесную. Местность невольно наводит на мысль о разбое, и могла производить тяжелое впечатление на душу одинокого странника. Мы не испытали его, потому что по своей многочисленности и по своему грозному виду скорее могли внушать, нежели испытывать страх.
Было уже за полночь, когда мы вступили в ущелие. Долго поднимались по тесной и извилистой, весьма трудной дороге и растянулись более, нежели на версту. Много раз выезжая из одной извилины в другую, мы льстили себя надеждою, что увидим перед собою столько желанный Абугош, или точнее деревню, принадлежащую племени, коего начальником не так давно был некто Абугош, славный своими разбоями. Там предположено было сделать краткий отдых, в котором самые неутомимые из нас уже начинали чувствовать нужду. В таком утомительном подъеме прошло часа два с лишком. Луна обошла нас полным полукругом и бросала тени наши уже вперед нас, уродуя образ наш на неровностях дороги. Веселые голоса все менее и менее слышались и наконец совсем замолкли. По временам только раздавалось спереди повелительное: « не отставать! » – передаваемое из уст в уста по всему каравану, или сзади чуть доносившееся: « стой! » – также переходившее от одного седока к другому до самого колонновожатого. Впрочем, иногда для развлечения общества случались обстоятельства, развязывавшие отяжелевшие языки. Так, например, раз вблизи меня споткнулся осел. Несколько сонливых русских голосов разлились остротами над павшим седоком. От седока речь перешла на животное, говоря о котором выражались всегда третьеличным местоимением в женском роде, без сомнения, воображая под собою по привычке лошадь. «Как она семенит ножками-то, – говорил один из моих соседей. – Ведь как жердочки тонки, а смотри, какую тяжесть несет и силу Бог дал». «А оттого, – подхватил другой, – что Христа на себе носила». Новая оступка животного дала новый повод к разговору, в котором уже отзывалось явное нетерпение и нескрываемое желание отдыха. Тут досталось между прочим и турецкому правительству, вовсе не помышляющему о том, чтобы поправлять дороги, «чтобы пешему человеку пройти было можно». Часам к трем с половиною мы были, по-видимому, на самой высоте хребта. Сзади нас уступами спускались пройденные нами возвышенности, едва различимые при слабом свете луны. Спереди открылась ровная площадка с густым лесом. Всем почуялся желанный отдых. Но ни в лесу, ни за лесом деревни не было. Мы ехали еще около четверти часа. Спускаясь в лощину по направлению чуть различаемых домов, я в сладком раздумье смотрел на нозвышавшийся за нею новый хребет гор, еще высший, нежели пройденные нами, резко очертавшийся алою линиею чуть белевшего востока. Там, за ним или на нем, стоит он – любимая мечта детства – Иерусалим! Еще несколько часов, и я ублажу себя видением, с которым ничто сравниться не может. Преславная глаголашася о тебе, граде Божий, лепетал язык, и сердце таяло от радости и страха… Мы не могли рассчитывать на какой-нибудь приют в Абугош. Дух нетерпимости наследовали, в ней духу грабежа, и должно пройти, по крайней мере еще одно поколение, чтобы переродился дух этот в дух гостеприимства. Мы спешились в стороне от деревни, возле какого-то огромного полуразрушенного здания с готическими окнами и такою же высокою и широкою дверью. Некогда было рассматривать его. Утомление и бессонница обессилили совершенно и душу, и тело. Кто как мог, мы приютились к стенам здания и заснули для радостного пробуждения.
Читать дальше