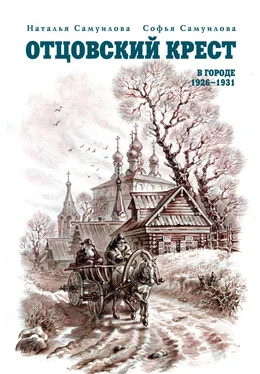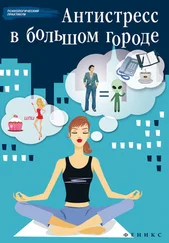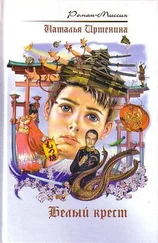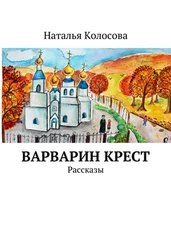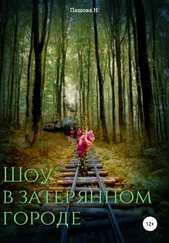Даже распорядок жизни горожан в какой-то мере зависел от этой грязи. Например, весенние каникулы в школе-семилетке, стоявшей посреди большой площади на окраине города, приурочивались ко времени весенней распутицы, независимо от того, совпадало это с каникулами в других школах или нет. В некоторые годы каникулы в семилетке особым постановлением исполкома приходилось продлевать на несколько дней против положенного, да и этого было мало. Случалось, что отцы сопровождали в школу 12-13-летних дочерей и в особенно топких местах переносили их на руках.
Конечно, сейчас, зимой, приезжие могли только слышать и догадываться об этом биче города, но были и другие прелести, заметные и теперь: пронзительные ветры, морозы, почти полное отсутствие деревьев; даже городской сад находился на другом берегу Иргиза, за плотиной. Тяготила жесткая вода, от которой чай терял вкус, а волосы после мытья так склеивались, что иногда казалось – их так и не удастся расчесать, и нет другого выхода, как обрезать весь этот плотно свалявшийся войлок.
Единственным, что не только произвело на всех хорошее впечатление, но даже примирило со многим, был собор. И не снаружи. Снаружи он представлял из себя темно-красный пятиглавый куб с облицованными белым камнем оконными наличниками, пятью, когда-то посеребренными, а теперь просто серыми куполами-луковицами и отдельно стоящей высоченной колокольней под таким же серым куполом. Зато изнутри он очаровал всех, даже отца Сергия и Юлию Гурьевну, знавших все тридцать с лишним самарских церквей, из которых многие были гораздо богаче уездного собора.
В этом случае помогла именно его бедность. Стены внутри до того почернели от копоти, что прошлой весной почувствовалась необходимость, не откладывая больше, произвести внутренний ремонт, а средств почти не было. Как ни изворачивались члены церковного совета, как ни занимали, где только могли, – набранных денег едва-едва хватило на покраску, о росписи нечего было и думать. Зато покрасили собор в нежно-голубой цвет, переходящий на прямоугольных колоннах в зеленовато-бирюзовый. Краски казались почти прозрачными, как воздух, а своды и купол были так высоки, что создавалось впечатление, будто тебя окружает чистое светлое небо с поблескивающими в самом зените первыми редкими звездами. От одного этого молитвенный порыв охватывал душу, и создавшееся настроение оказывалось настолько сильным и прочным, что заставляло забывать о мелких житейских неполадках.
Нужно сознаться, что такому настроению мешало многое. Прежде всего, несоразмерная высота здания, куда улетало зимой все печное тепло, а всегда, в любую пору года, – весь звук. Отец Сергий, говоривший вначале, что служить в соборе легко, т. к. собор сам допевает «аминь», скоро почувствовал и отрицательную сторону этого непосредственного участия соборных стен в чтении и пении. Особенно в чтении. Гулкий резонанс многократно преломлял, искажал и совершенно заглушал голос чтеца, и нужно было иметь большую привычку, чтобы разобрать хоть что-нибудь. Старожилы говорили, что раньше было еще хуже, но потом догадались отгородить десятисаженный цилиндр главного купола поперечным стеклянным перекрытием вроде потолка. Тогда явилась возможность понимать кое-что из читаемого, а зимой стало немного заметно, что собор отапливался. Впрочем, очень немного. Громадное (конечно, в уездных масштабах) здание требовало непосильных расходов. Ремонт, налог со строений, освещение все стоило гораздо, иногда в два-три и более раз, дороже, чем в Старом соборе. А особенно отопление. Трудно сказать, сколько нужно было дров, чтобы добиться постоянной, ровной температуры. Теперь в каждую топку закладывали всего воз (на дровнях, примерно 3/4 кубометра), а то и полвоза дров, и все тепло поднималось к сводам, а внизу царил свирепый холод. Особенно он мучил в будни, да еще Великим постом, когда на дворе начинало таять и нельзя было ходить в валенках. Да и весной было нелегко. Промерзшие за зиму каменные стены согревались чуть ли не к концу июня, а в апреле и мае внутри собора все еще было холодно. Люди приспосабливались, кто как мог. Духовенство чуть не круглый год имело в запасе валенки, в которые обувались, приходя в церковь; в алтаре, чтобы не замерзали Св. Дары, была сложена маленькая печка-буржуйка. Некоторые прихожане приносили с собой специальные половички, а другие шли по линии наименьшего сопротивления и просто уходили в Старый собор. Как ни обидно было патриотам Нового, приходилось признать, что старинный, с низкими сводами и деревянными полами, Старый собор имел больше преимуществ перед Новым. Там было тепло, была хорошая слышимость и хороший хор, тоже привлекавший немало молящихся из чужого прихода. А лишние молящиеся давали лишний доход и, следовательно, возможность больше платить певчим, иметь лучшего регента, содержать третьего священника. Словом, там могли позволить себе много расходов, недоступных значительно беднейшему Новому собору, хотя официально он и считался первым, кафедральным. Впрочем, был определен круг людей, привязанных к нему служебным положением или сердечной склонностью, или тем и другим вместе, потому что было в нем что-то внушавшее искреннюю любовь. Этим людям приходилось вести напряженную борьбу за то необходимое, что в Старом соборе давалось легко и просто, о чем там даже не думали.
Читать дальше