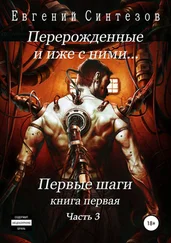1 ...8 9 10 12 13 14 ...26 «Пойду-ка я в гости схожу, – подумал батюшка. – Надо же когда-то ребус этот разгадать». И пошел по балочке, по-над узенькой речкой, где как раз заканчивались огороды старушек.
По краям огородов, засеянных картошкой, тыквами и подсолнухом, в качестве разделительной изгороди росла кукуруза, а между ними шла тропинка к усадьбам. Не доходя до огурцов с помидорами, кабачками и прочей петрушкой, что всегда поближе к дому сажают, батюшка наткнулся на громадную старую шелковицу, усыпанную черными кисточками ягод. Причем ствол ее располагался на одном огороде, а большая часть веток тянулась к речке и соответственно нависала над другим огородом…
Что-то мелькнуло в мыслях отца Стефана, догадка почти осенила его, но до логического завершения он дойти не смог, так как все мысли перекрыл доносившийся с двух сторон стереофонический детский рев. Трое ревели у Гликерии и четверо – у Марии. По возрасту практически одинаковая четверка доказывала бабе Маше, что «те первые начали», а бабе Глаше вообще неразличимая друг от друга тройня вопила, что «те первые полезли».
Откуда прорезался у отца Стефана громовой голос, трудно сказать, но после его протяжного, с вибрацией и иерихонской силой «Во-о-онмем!» все замолчали и уставились недоуменно на неизвестно откуда взявшегося священника.
Глядя на облупленные носы, поцарапанные животы и ободранные детские коленки, а также на засмущавшихся старушек, отец Стефан произнес поучение:
– Шелковица – дерево святое. Под таким деревом Сам Господь отдыхал и плоды его вкушал. Поэтому это дерево к церкви относится и тютину с него рвать только по благословению священника можно. Понятно?
– Да! – почти хором ответили ребятишки.
– Вот и слава Богу. Утром проснетесь, умоетесь, молитву прочитаете и ко мне за благословением. Кому собирать, а кому и попоститься – тем, кто с вечера бабушку не слушал или друг на друга сердился. Тоже понятно?
Головки согласно закивали, а старушки…
Старушки улыбаться начали и на праздник Вознесения уже вместе у Серафима преподобного стояли, как испокон веку повелось.

Отец Стефан прекрасно знал, что такое ладан. Более того, он даже помнил, как древние святые отцы каждение определяли: огонь кадильных углей знаменует Божественную природу Христа, сам же уголь – Его человеческую природу, а ладан – молитвы людей, приносимые Богу. Знать-то знал, да что толку, если ладана как такового в те годы начального его священства хоть с огнем, хоть без огня найти было невозможно?
Те же серо-белые гранулы, которые на епархиальном складе для приходов продавали да раздавали, дымили не положенным фимиамом, а чем-то средним между запахом железнодорожных шпал и прогорклым подсолнечным маслом доперестроечного урожая. Данному ладану священники даже два наименования определили: СС‐1, то бишь «смерть старушкам», и СС‐2 – «смерть священникам». Умельцы, конечно, находились, пытались самостоятельно сделать гранулы, приятный запах издающие, но толку было мало. Кадишь храм, а прихожане шепчутся, что сегодня «фимиам» ну точно как одеколон «Шипр» пахнет или лосьоном «Ландыш» отдает. Какое уж тут «благоухание духовное»?
Как-то привезли нашему настоятелю коробочку достойного, молитвой пахнущего ладана афонского, так отец Стефан им только по праздникам большим пользовался, да и то по грануле одной за всю службу на уголь кадильный клал.
Уголь, правда, тоже самодельный был. Осенью староста приходской пару мешков кочерыжек кукурузных в котельную принесет, в печи их обожжет, вот тебе и кадильное топливо. Но уголь не ладан, проблемы не решает. А кадить-то чем-то надо. Да и троицкие праздники приближались.
Решил настоятель разобраться, откуда этот ладан берется, где производится. Не может же быть такого, чтобы на родных просторах, где для всех и вся заменители находятся, не было бы чего-то подобного. У нас, конечно, не Аравия и Восточная Африка, где данный продукт произрастает, но если земля наша даже «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» рождать умудряется, то что-то подобное ладанному дереву обязательно должно быть.
Первое, что на ум пришло, – вишня. Вспомнил отец Стефан, как в детстве они с вишен смолу отколупывали и благополучно ее ели. Вишни прямо в приходском дворе были, так что эксперимент не заставил себя долго ждать. Отковырнул несколько кусочков смолы священник, да на раскрасневшуюся печку в сторожке немножко бросил. Задымилась смола, но запах слабенький, на метр отойдешь – и ничего не слышно. Пришлось остальной клей (так в детстве они вишневую смолу называли) по старой привычке съесть.
Читать дальше
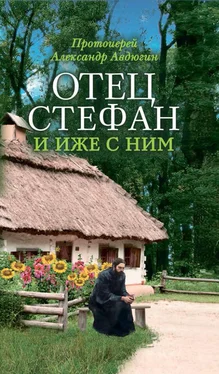


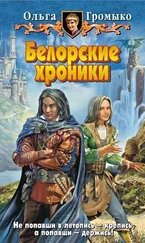
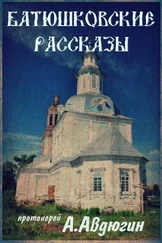
![Евгений Синтезов - Перерожденные и иже с ними… Первые шаги. Часть третья [SelfPub, 16+]](/books/419214/evgenij-sintezov-pererozhdennye-i-izhe-s-nimi-pervy-thumb.webp)
![Евгений Синтезов - Перерожденные и иже с ними… Первые шаги. Часть вторая [SelfPub, 16+]](/books/419215/evgenij-sintezov-pererozhdennye-i-izhe-s-nimi-pervy-thumb.webp)
![Евгений Синтезов - Перерожденные и иже с ними… Первые шаги. Часть первая [SelfPub, 16+]](/books/419216/evgenij-sintezov-pererozhdennye-i-izhe-s-nimi-pervy-thumb.webp)