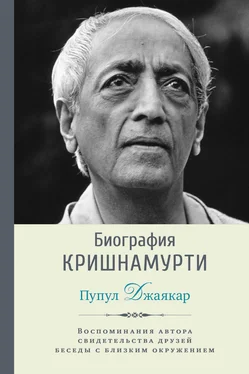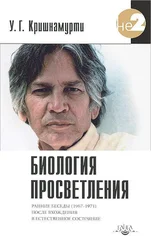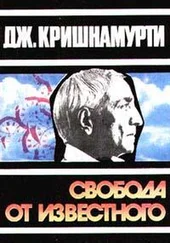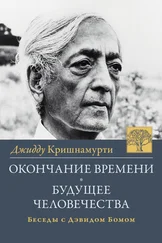В последующих беседах он говорил о повседневных проблемах, с которыми сталкивается человечество: страхе, гневе, зависти, неистовой тяге к обладанию. Беседуя о взаимоотношениях как о зеркале самопостижения, он обращался к примеру союза между мужем и женой – самых интимных отношений, но в то же время нередко самых бесчувственных и лицемерных. Во время таких бесед мужья смотрели на своих жен со смущением и растерянностью. А некоторые последователи традиционного индуизма просто покидали зал: им было непонятно, почему в религиозной беседе мы обращаемся к вопросу о взаимоотношениях между мужем и женой. Кришнаджи отказывался отходить от «того, что есть» – от фактически существующего; отказывался обсуждать такие абстракции, как Бог или вечность, сосредоточивая внимание на том, что наш ум является неистовым вихрем страсти, ненависти и зависти. Именно в этот период некоторые из его слушателей стали предполагать, что он не верит в Бога.
В середине февраля я снова пришла на встречу с ним. Кришнамурти спросил, заметила ли я какие-то изменения в своем мыслительном процессе. Я ответила, что во мне не роится столько мыслей, как прежде. Мой ум перестал быть таким неугомонным.
– Если вы экспериментировали с самопознанием, то должны были заметить, что ваш мыслительный процесс замедлился, ваш ум прекратил неустанные блуждания, – произнес он и погрузился в молчание. Я терпеливо ждала, что он скажет дальше. – Попытайтесь прорабатывать каждую мысль до ее полного завершения, доводите ее до самого конца. Вы обнаружите, что это очень сложно, ибо, как только одна мысль является на свет, за ней немедленно торопится другая. Ум отказывается завершать мысль. Он сбегает, перескакивая от мысли к мысли.
Так и есть. Когда я пыталась следовать за своей мыслью, то неизменно убеждалась, что она проворно старается убежать от наблюдателя. Тогда я спросила, каким образом человек может завершить мысль, и Кришнаджи ответил:
– Мысль может прийти к завершению лишь тогда, когда мыслитель поймет себя, когда он увидит, что мыслитель и мысль не есть два отличных друг от друга процесса. Мыслитель и есть мысль, но он отделяет себя от мысли, чтобы защитить себя, чтобы продлить свое существование. Поэтому мыслитель постоянно вырабатывает мысль, которая непрестанно преобразуется и меняется.
Он помолчал.
– Отделен ли мыслитель от мысли? – Кришнаджи делал продолжительные паузы между предложениями, словно бы для того, чтобы слова его могли пройти как можно дальше вперед и вглубь. – Устраните мысль, и где будет мыслитель? Вы обнаружите, что мыслителя нет. Поэтому, когда вы доводите любую мысль до конца, хорошего или плохого, – а сделать это чрезвычайно трудно, – ум замедляется. Чтобы понять «я», нужно пронаблюдать это самое «я» в действии, что возможно лишь тогда, когда ум замедляется, а это осуществимо лишь в том случае, если вы доводите каждую возникающую мысль до самого ее конца. И тогда вы увидите, что все ваши проклятия, желания, ревность и зависть – все это полностью обнажается перед лицом сознания, пустого и абсолютно безмолвного.
В результате того, что я слушала Кришнаджи в течение последнего месяца, мой ум стал пластичнее. Его наслоения утратили свой рисунок и твердость. Я спросила:
– Но если сознание наполнено предрассудками, желаниями и воспоминаниями, может ли оно тогда постичь мысль?
– Нет, – был ответ, – ибо оно постоянно руководствуется мыслью в своей деятельности: бежит от нее или опирается на нее, – он снова погрузился в молчание. – Если следовать за мыслью до ее завершения, вы увидите, что в ее конце – тишина. Оттуда начинается обновление. Рождающаяся из этой тишины мысль уже не движима желанием, она возникает из состояния, не замутненного воспоминаниями.
Но, опять таки, если мысль, рожденная таким образом, не завершена, от нее остается некий остаток. Тогда обновления нет, и ум снова оказывается в плену у сознания, которое есть воспоминание, пребывающее в плену у прошлого – у вчерашнего дня. Каждая мысль, одна за другой, представляет собой вчерашний день – нечто нереальное.
Новый подход заключается в том, чтобы завершить время, – заключил Кришнаджи. Я не поняла этих слов, но они продолжали звучать во мне и после того, как встреча завершилась.
Мы с Нандини иногда брали Кришнаджи с собой, когда ездили кататься в Висячие Сады в Малабар-Хилл или на пляж Уорли. Иногда мы совершали с ним и пешие прогулки, но нам было сложно поспевать за его широким шагом. А иногда он уходил погулять один на часок и по возвращении казался нам незнакомцем. Во время совместных прогулок он порой рассказывал нам о своей молодости, о жизни в Теософском обществе и о днях, проведенных в Охае (Калифорния). Он рассказывал о своем брате Нитье, о своих приятелях Раджагопале и Розалин и о школе «Счастливая долина». Часто, когда Кришнаджи рассказывал о прошлом, память его была точна и безошибочна. В иные моменты прошлое скрывалось в сумраке, и он говорил, что не может вспомнить что-то. Он много улыбался, смех его был глубоким и звонким. Он рассказывал смешные истории, расспрашивал у нас о детстве и юности. А еще он говорил об Индии, с живым интересом стараясь понять наши взгляды, то, что мы думаем о происходящем в стране. Мы же не могли избавиться от чувства растерянности и смущения: в нем было столько тайны и переполняющего присутствия, что нам было трудно вести себя непринужденно, мы боялись, что наши речи будут лишком банальны. Но смех его помогал нам стать ближе.
Читать дальше