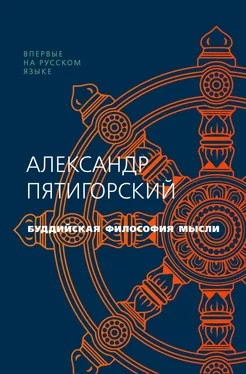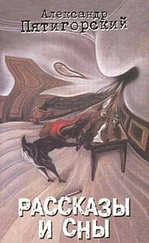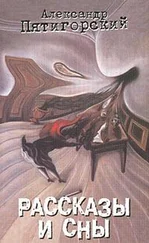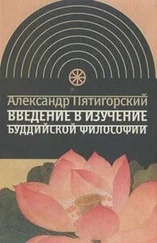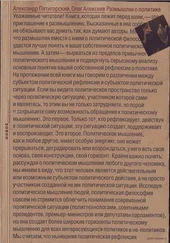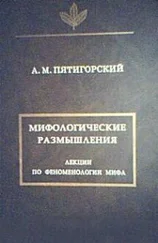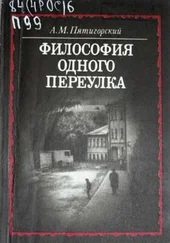Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Так, например, говоря о йогачаринах, Г. Гюнтер пишет: «Для них „ум“ был не столько „особой умо-сущностью“, сколько символом особого [ умственного. – А. П. ] опыта…» (Guenther H., 1973, р. 93). Неплохо для начала, но этого недостаточно для понимания того, о чем их (йогачаринов) теория ума. Ведь если феномен этого «опыта» (символизируемого как «ум») можно было бы, в свою очередь, редуцировать к уму или одному из синонимов последнего, тогда в учении йогачары не могло бы быть никакой теории ума.
Существует еще одно различие в отношении теории сознания, которое порой совпадает с предыдущим, а порой накладывается на него, хотя в некоторых отдельных случаях оно, видимо, относится к несколько другому уровню нашего (современного) понимания того, что такое теория, уровню, который можно было бы, совершенно условно разумеется, называть «семиотическим». Если рассматривать ее с позиции этого различия, каждая теория считалась бы теорией только при условии обладания собственным метаязыком , то есть специальным языком, посредством которого теория описывает и интерпретирует свои собственные «факты». Ясно осознавая крайнюю расплывчатость этого «определения», я хотел бы также весьма недвусмысленно заявить, что, вообще говоря, критерии метаязыка теории чисто субъективны и полностью произвольны по отношению к конкретному языку, используемому в качестве метаязыка, равно как и по отношению к конкретным взаимосвязям между содержанием теории и ее метаязыком. Так, с точки зрения внешнего наблюдателя в таких суждениях, как « дхарма – это состояние сознания» и «1 – это число», у нас будет один и тот же метаязык – русский. Но если посмотреть с внутренней точки зрения этих двух «теорий» (то есть буддийской теории сознания и теории чисел), то и «дхарма», и «1» считались бы двумя терминами соответственных метаязыков, о которых можно мыслить как об абсолютно нейтральных по отношению к любому конкретному естественному языку, в данном случае – санскриту и русскому. И это полностью независимо от того факта , что металингвистически «дхарма» остается санскритским словом, тогда как «1» не относится специфически к русскому языку. Однако, несмотря на все это, я полностью осознаю тот неустранимый факт, что само суждение « дхарма – это состояние сознания» довольно бессмысленно в смысле буддийской теории сознания. Бессмысленно, потому что в контексте этой теории «дхарма» есть состояние сознания, состояние сознания есть «дхарма», дхарма есть сознание (или ум, или мысль, раз уж на то пошло), так что в этом суждении мы имеем ряд бесполезных синонимов, если рассматривать его как относящееся к теории. А вот к чему оно совершенно определенно относится, так это к нашей собственной метатеории , то есть, так сказать, к нашему собственному теоретическому пониманию и описанию (или, точнее, описанию нашего понимания) буддийской теории.
Maslow А., 1968, р. 3. Термин «метапсихология» использовал Фрейд в «Психопатологии обыденной жизни» (1901), хотя «метапсихологическое» появилось годом раньше в «Толковании сновидений».
Там же, с. 8.
Это его непонимание достигает кульминации в следующем отрывке: «Способность более здоровых [курсив мой. – А. П. ] людей погружаться в бессознательное и предсознание, ценить и использовать первичные процессы, вместо того чтобы бояться их, мириться с их импульсами, вместо того чтобы всегда контролировать их, умение добровольно и бесстрашно отдаться регрессу, оказывается одним из основных условий творчества» (там же, с. 209). Особенно забавно, что термин «более здоровый» немедленно вызывает в памяти «не-больной» из «Дхаммапады», хотя с той разницей, что здесь у нас «творчество» вместо «прекращения возникновения страдания» (dukkhasamudayanirodha) .
В этой связи Лиам Хадсон, видимо, умнее и, к счастью, менее «гуманистичен», чем многие другие из его поколения, хотя он и разделяет с ними некоторые их культурные ограничения . Но он хотя бы способен осознавать, что то, с чем он имеет дело, не является и не может быть «чистой» или «чисто объективной» психологией. Когда он говорит, что «если принцип релятивизма вообще применим, то он должен касаться не только людей, которых изучают психологи, но и психологов, которые ведут это изучение», – он осознает время как неотъемлемый фактор «метапсихологии», но не тип психолога , который обусловлен культурой и чья умственная деятельность культурно субъективна . А значит, она действует в терминах определенного культурного метаязыка и символизма (см.: Hudson L., 1972, р. 158–159). На самом деле то, что Лиам Хадсон недавно описал как двойной этос современных психологов ― их деление на «мягких» и «жестких» (читай – «субъективное/объективное», или «личное/безличное», или «человечность/вещность»), – видимо, является не более чем временным культурным отношением в его собственном (и его современников) самосознании . Как таковое оно не имеет никакого отношения к феноменологии, которая по крайней мере в принципе не занимается ни личным, ни безличным, а лишь способами, которыми факты сознания даны (или могли быть даны) своему наблюдателю. Дихотомия «искусство/наука» столь же далека от того, чтобы быть «теорией», как и «Эрос» Маркузе или «разделенное Я» Лейнга, хотя бы по одной причине: все эти идеи нельзя связать с каким-либо «данным» фактом сознания иначе, чем посредством или с помощью какого-то чисто культурного символизма (хотя как же хочется вместо этого назвать его «метафоризмом»!), который в первом случае представлен «единорогом», во втором – «Эросом», а в третьем – «заброшенным садом». Более того, сама идея «факта» в отношении сознания теоретически связана не с самим сознанием, а с его культурным отражением . В свою очередь, это равнозначно ситуации, где для того, чтобы и прежде, чем понять «что-то» о сознании, нужно было бы обязательно прочесть некоторые тексты своей собственной культуры , которые снабдили бы тебя символической системой – иначе ты бы так и не смог сформулировать свою тему.
Читать дальше