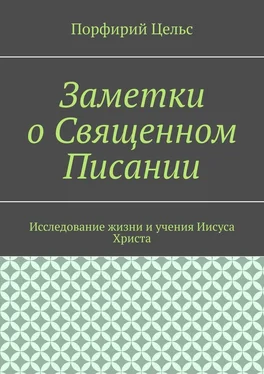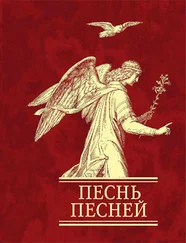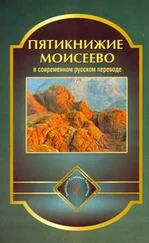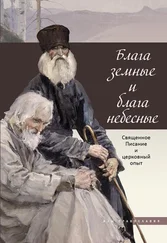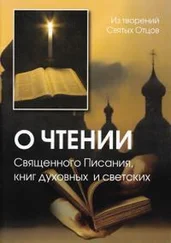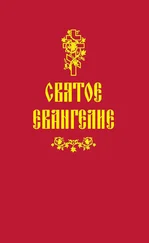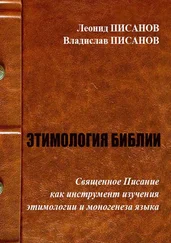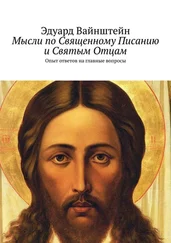И возникает замешательство, когда узнаёшь, что Св. Колумбан не представляет собой исключение, что многие святые Католической Церкви не являются святыми Православной Церкви, и наоборот. Действительно ли они верные слуги, угодники и друзья Божии, если миллионы христиан им не доверяют? Например, католики не одобряют деятельности Константина Великого, убившего жену, сына и других родственников (этот православный святой «до самой смерти носил титул „pontifex maximus“ культа Митры и после смерти был объявлен богом [28,2,165]»). А по свидетельству проф. А. Спасского, «в сирском месяцеслове, изданном Egli, под 6-м июня значится: „в Александрии Арий пресвитер“. Давно высказывались, правда, нерешительные подозрения, что здесь разумеется именно Арий, основатель арианского учения. В качестве несомненного факта это установил покойный преосвященный Сергий Владимирский в его полном месяцеслове Востока [10,285]». Так досточтим Арий пред очами Божиими или нет? «В Абиссинии Понтий Пилат, как известно, причислен к лику святых, а имя его жены Клавдии Прокулы (Проклы) значится в святцах и греческой Церкви (27 октября) [4,3,512]». Таким образом, по мнению одной церкви, покинувший грешную землю хороший человек уже находится у престола Божия, а по мнению другой, он ещё дожидается за вратами рая решения своей участи. А как на самом-то деле? Но еще большее замешательство возникает от того, что, оказывается, Церковь может отозвать святого из сонма святых. Так, в частности, случилось с Климентом Александрийским и Анной Кашинской. Довольно лёгкое обращение с судьбами святых объясняется тем, что уже с первых веков новой эры христианское «духовенство без всякого уважения к правде или правдоподобию стало придумывать имена для скелетов и подвиги для имён [30,3,318]». Очевидно, что Господь Бог при решении вопросов канонизации играет роль свадебного генерала, от которого ничего не зависит. При таком положении вещей как полагаться на мнения святых, которые в любой момент могут оказаться не святыми?
Митрополит Вениамин, однако, поучает: «Если сомневаешься в чём-либо, то представь себе таких великих людей, как апостолы, святители Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, святитель Николай и прочих святых; вспомни и про русских подвижников: Антония, Феодосия и прочих чудотворцев Печерских, Сергия, игумена Радонежского, Серафима Саровского и подумай: кто мы такие пред ними?! – Маленькие дети! И авторитет этих великанов научит нас смиренной вере во всё христианское учение [217,368]». Блаженный Августин откровенничает в том же духе: «Я не поверил бы Евангелию, если бы меня не побуждал к тому авторитет Католической Церкви [11,28]». Шокирующие заявления знаменитых святителей. Церковь пользуется у меня огромным авторитетом как ведущая политическая сила средневековья, она и сегодня играет не последнюю роль в мировой политике, но это никак не сказывается на моем отношении к Св. Писанию. Мне кажется, что для веры нужны более серьёзные причины, чем чей-либо авторитет.
«Только тот человек, – считает знаменитый теолог и философ Сёрен Кьеркегор, – который сам, самолично получает условие веры от Бога (а это условие всецело зависит от требования, чтобы человек отказался доверять рассудку и, с другой стороны, сам стал для себя единственным авторитетом веры), – только такой человек является в подлинном смысле верующим. Если же человек верит (точнее, воображает себя верующим) потому только, что вот уверовало же много хороших, честных людей…, то такой человек просто дурак, и тогда это уже дело только случая, стал человек верующим, благодаря своим собственным убеждениям, или под влиянием распространенного мнения о вере хороших, честных людей, или же он верит какому-нибудь Мюнхгаузену [203,118]». Основательной представляется и позиция Будды, который сказал: «Не верьте тому, что я говорю, пока сами не испытаете этого. Пока это не станет вашим собственным пониманием, не верьте мне.. Не верьте ничему, потому что оно написано в священных книгах. Книги могут ошибаться – кто знает? Пока вы сами не станете свидетелем, нет никаких гарантий истинности того, о чем вы узнаёте [12,227]». А у нас получается, что авторитет Церкви, на котором держится вера Августина, зиждется на богодухновенности Евангелий, а богодухновенность Евангелий устанавливается авторитетом Церкви.
Но, как утверждает проф. Лопухин, «Церковь ничего не „творила из себя“ в этом случае, а только, так сказать, констатировала точно проверенные факты происхождения священных книг от известных богодухновенных мужей Нового Завета [5,8,5]». Не захотел почему-то маститый профессор принять во внимание трудов основателя Тюбингенской исторической школы Ф.Х.Бауэра, как, впрочем, и трудов известного богослова Бруно Бауэра. Первый настаивал на том, что все четыре Евангелия являются не рассказами очевидцев, а позднейшими переработками утерянных писаний, и что из посланий, приписываемых апостолу Павлу, подлинными являются не более четырех, к Галатам, к Римлянам и два послания к Коринфянам, [6,3,46]; второй считал подложными все послания Павла [6,1,169]. «Уже в самом начале христианства многие авторы, – негодует известный теолог и философ Альберт Швейцер, – ставили под своими произведениями имена апостолов!… Многие писания Нового Завета, несмотря на их ценное и любимое нами содержание, не являются подлинными [73,33]». Однако надо отдать должное христианам: в фабрикации литературных подделок они не были первопроходцами. «В древности было самым обычным явлением выпускать книгу под чьим-либо громким, чужим именем, особенно под именем писателя седой древности. Особенно в моде это было как раз для пропаганды новых религиозных учений [57,337]».
Читать дальше