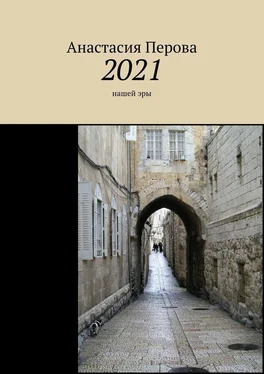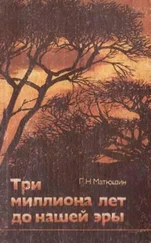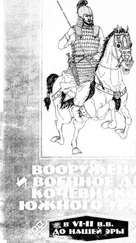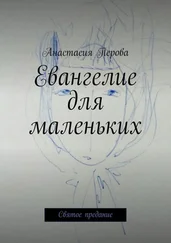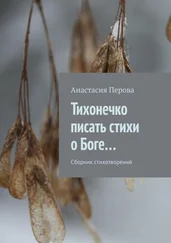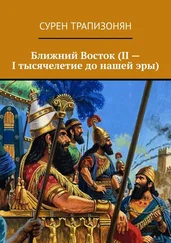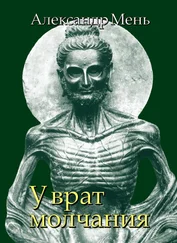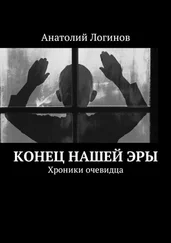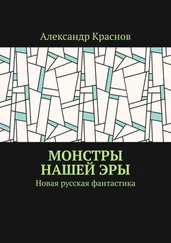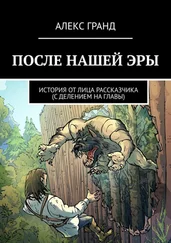умирает он в двадцать или в сто лет.
Важно оставаться в этом вопросе
смелым и непосредственным,
искренним, как ребенок.
Только он во время часов,
занятых игрой и листанием книжек с картинками,
читать еще не умеет или не хочет предаваться
этому занятию без взрослых,
посвящает себя постановке вопросов
на высочайшие по полету мысли
о смысле и создании мира.
У взрослых эта способность несколько притупляется:
мы привыкаем к тому, что встает солнце,
начинается рабочий день,
привыкаем даже к отдыху в новом месте,
словно попадая в неизведанные места
с фотографий на экране телефона,
по которым когда-то не так давно
выбирали место назначения.
Мы привыкаем уходить от вопросов,
не вслушиваться даже в собственные ответы,
но по-прежнему любуемся детьми.
А они с Богом, как с солнечным лучиком,
всегда связаны, и умеют молиться так,
словно это дело их жизни.
А ведь молитва и есть дело жизни.
Чего стоит только жизнь монаха,
о которой так легко забыть где-то в мегаполисе,
но которая плавно течет в молитве – и растворяется в ней.
Но вернемся к нашему вопросу.
Где пролегают пути человеческой истории?
Мы наделены чувствами, эмоциями, интеллектом.
Мир так красив, что мы воспеваем его:
хрупкую гармонию природы,
закаты и рассветы,
любимых людей,
наполненность,
напоенность глаз.
Как все поддерживается,
как начинает рушиться,
приходит в упадок,
отступает от собственных сил
и снова начинает бороться,
если не падает окончательно.
У всего этого есть смысл много выше,
чем простой подъем по цепи.
Люди на Земле, в этом бесконечном представлении,,
нуждаются в Создателе,
Творце никогда не повторяющихся дней и всего живого.
Именно Он знает ответ на вопрос о смысле, предназначении,
именно Он все устрояет и дает проявиться скрытому.
Мы шли к Нему долго —
от шаманизма и примитивных религиозных верований к монотеизму.
Он шел к нам через дни творения,
через годы ожидания и годы отречений.
Человечество продолжает ходить
вокруг да около, мяться, искать ответы
в философии и психологии,
играя с божками разных культур,
рассматривая, словно в калейдоскопе,
призрачные истории других поколений.
Но ясно одно:
от чего мы бежим всю свою жизнь.
Точнее, от Кого.
От истории, свершившейся более
двух тысяч лет назад.
Храмы и церкви стоят не просто так,
и не нам отворачиваться от них.
В них, незримый, стоит Господь Иисус Христос —
и ждет нашего всецелого покаяния.
Покаяние – не просто сокрушение сердечное,
говоря церковным языком.
Это и переворот сознания, метанойя.
Раскаянье в том, что не видели Создателя
за каждой дикорастущей веточкой в лесу,
в тепле солнечного света,
в надежности земли под ногами даже во времена,
когда она, кажется, перевернулась или ушла куда-то далеко.
Раскаянье в своих делах, не злых,
просто трусливых и направленных
не на те цели и смыслы,
которые мы сами хотели бы видеть.
Гордость не радостную, окрыляющую,
а закрывающую в самом себе, словно в глухом танке.
Стыдно плясать с кришнаитами
или распевать мантры с индийскими гуру,
ловя каждое чужое слово на незнакомом, пряном языке —
после Христа.
Мы про Него знаем,
и это достаточное основание для обвинения во лжи,
самому себе и окружающему миру,
своему времени на земле.
Он Бог Живой, а мы порой ведем себя,
как бунтующие, но несмышленые подростки,
кокетничая с жизнью.
Что приводит человека в Церковь:
что он ищет в Церкви
и найдет ли он это там,
оставаясь самим собой?
О Боге забывают, когда радость – порой,
это редкий повод прийти в храм.
Но малопонятные события,
разговоры и вести о чем-то неизведанном,
но способном помочь – могут, словно за руку,
а то и волоком притащить человека на Богослужение.
Что-то незримо меняется в том, кто приходит в Церковь.
Отстаивая часы на Литургии, маясь поначалу,
не понимая слов церковно-славянского языка и значений,
символов и образов, человек приходит к благодати,
которая покрывает его прошлое,
его недоделанные дела и просчеты
в жизненных решениях.
Он потом наберется сил и знаний,
выучит язык богослужений,
но одно точно – в нем уже дышит Бог,
возвращая из открытого для бури страстей,
скупого на любовь космоса домой,
Читать дальше