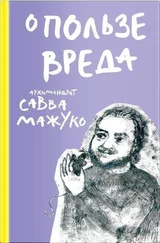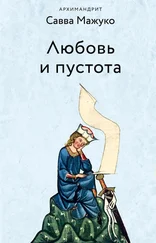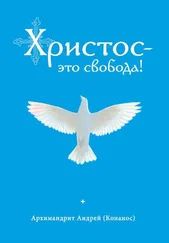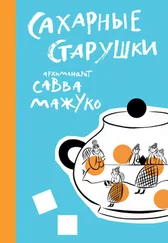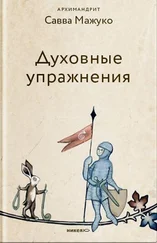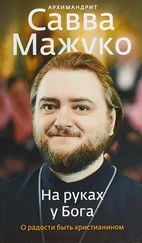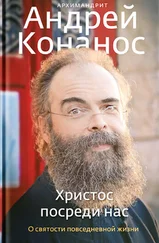Да, у нас есть литургия – это все о Нем! – но даже ее мы умудряемся перегрузить чем-то «полезным» и понятным. Каждый видел те горы частичек, которые вынимаются из просфор с именами живых и усопших, и для огромного числа верующих это и есть настоящее предназначение литургии, которым оправдывается ежедневное служение.
И как нам пробиться ко Христу через это «облако свидетелей», которые, кажется, должны на Него указывать и только о Нем говорить, но давно уже заслонили собой Христа, оттеснили Его на безопасное расстояние?
Святые нам ближе и понятнее, иконы Богоматери отогревают сердца, но неужели не режет глаз это вопиющее уродство и искажение церковной жизни, когда Христос будто в почетной ссылке?
В середине ХХ века богословы услышали призыв: «назад к отцам!», и произошло открытие и переоткрытие святоотеческого наследия, и нашу жизнь обогатили и украсили тексты великих христианских мыслителей прошлого, мы научились их лучше понимать и слушать их мысль. Сегодня важно, очень важно понять именно нам, православным, всю остроту и значительность нового призыва: «назад к Иисусу!»
Это призыв к большому многолетнему труду, всецерковному усилию ради «очищения смыслов», актуальность которого доказывает уже то, что его необходимость приходится доказывать.
Спросили одного ученого:
– Какие духовные упражнения вы предпочитаете?
– Я подчеркиваю в книгах! – ответил профессор и тут же вызвал у меня симпатию и понимание. Потому что из всех духовных упражнений подчеркивать в книгах – мое любимое. Конечно, у меня множество блокнотов, тетрадок, карточек, но читать книгу без карандаша я уже просто не в состоянии. Подчеркнуть, выделить, сделать пометки на полях – это здорово помогает вниманию, это работа мысли, оставляющая физически различимый след, по которому можно пройтись снова и снова, как по руслу, пробитому потоком любопытства и восхищения, словом, когда рассудок с эмоциями заодно, дело непременно заканчивается «наскальными надписями».
Хороший навык, согласитесь. Однако эта привычка, как ни странно, мешала мне читать Евангелие. Церковь воспитывает особое благоговение к этой книге. В храме вы не увидите просто Евангелие, нет, это будет непременно книга в тяжелом окладе, часто с застежками и расшитой закладкой, которая всегда лежит на престоле – самом святом месте православного храма. Когда наступает момент чтения, книгу нельзя просто снять с престола, нет, – дьякон или священник дважды крестятся, целуют престол, крестятся в третий раз и только потом берут Евангелие. Когда с ним выходят на амвон, впереди всегда несут свечу.
После чтения воскресного зачала на всенощной в субботу дьякон несет Евангелие к царским вратам и высоко держит его, пока мы поем «Воскресение Христово видевше», и лишь потом кладет на аналой в центре храма, чтобы можно было всем к нему приложиться, – в этот момент сама Книга символизирует Христа, а потому вызывает такое исключительное и очень понятное почтение.
Но порой возникает вопрос: Евангелие в церкви – для чтения или почитания? Потому что, мне кажется, мы временами увлекаемся, и религиозная форма незаметно отчуждается от духовного содержания.
Евангелие мы видим на исповеди, слушаем на крещении и венчании, монашеском постриге и отпевании, даже на освящении квартиры, однако для этих особых случаев и Евангелие используется особое. Я не говорю про текст, я говорю про книгу, которая из источника воды живой превращается в орнамент.
Ирина Одоевцева вспоминает, что среди почитателей поэзии Гумилева была его кухарка Паша, которая незаметно подкрадывалась послушать его чтение. Это удивляло Гумилева, который не мог поверить, что она там что-нибудь понимает, и он однажды спросил:
«– Нравится вам, Паша?
Она застыдилась, опустила голову и прикрыла рот рукой:
– До чего уж нравится! Непонятно и чувствительно. Совсем как раньше в церкви бывало» [1] Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1988. С. 67.
.
Почему-то раз церковь, значит – непонятно и чувствительно. Да и как понять простому человеку евангельские славянизмы: «не сердце ли наю горя бе в наю» и «она же беста дряхла о словеси сем».
Дело в том, что Библия пришла к нашему народу несколько позже, чем Православие. Впервые полный текст Писания на славянском языке был издан в 1751 году – так называемая Елизаветинская Библия. Однако уже в год издания она стала библиографической редкостью. А появление Библии на русском языке приходится на конец XIX века – 1876 год. Конечно, можно спорить о доступности текста, о более ранних переводах, но все эти разговоры упираются в один еще более жуткий факт: согласно переписи Российской империи за 1897 год, почти восемьдесят процентов населения не умели читать и писать. И можно было издавать еще больше Библий и богословских трактатов, но темному люду от этого не становилось светлее.
Читать дальше
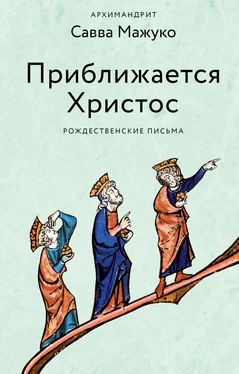
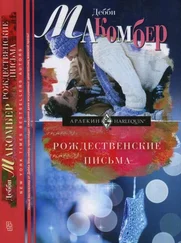
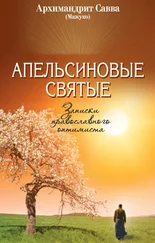

![Лидия Авилова - Христос рождается [Рождественские рассказы]](/books/391296/lidiya-avilova-hristos-rozhdaetsya-rozhdestvenskie-ra-thumb.webp)