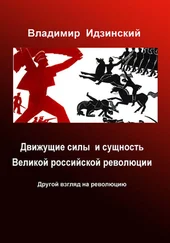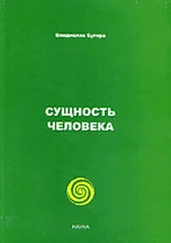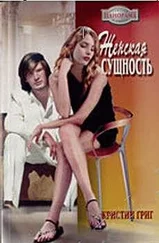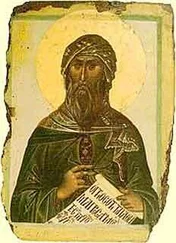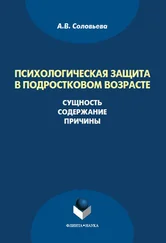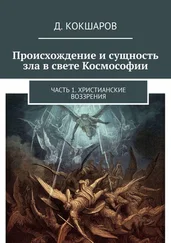В послании к Евреям 11 главе в 1 тексте он дает исчерпывающее определение веры, которое и в Ветхом, и в Новом Завете есть «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
Судьбы религиозного искусства в Ветхом и Новом Завете
Наряду с тем, что заповедь Божия запрещает изображение Самого Бога, в Ветхом завете при строительстве храма Сам Господь благословил и повелел: «Сделай из золота двух херувимов» (Исх. 25:18-22). Также на покрывалах скинии искусною работою должны были быть вытканы изображения херувимов. (Исх. 26:1). Это храмовое искусство продолжало развиваться при строительстве монументального храма во дни Соломона (3Цар. 17:21; 2 Пар. 3:4). Искусство включало художественную ткань (вышивку), литье (золотые фигуры херувимов), резьбу по дереву. Его спектр был разнообразен. Во дворе храма двенадцать тельцов, вылитых из меди, поддерживали огромную чашу, наполненную водой. Предметы святилища были украшены золотыми венцами, среди которых были яблоки, листья, изображения огурцов, пальмы и другое.
Итак, в храме было изображение окружения Божия, но не было изображения Самого Бога, а также не было изображений праотцев — Авраама, Исаака, Иакова, Моисея и других, глубоко почитаемых еврейским народом. Искусство имело свой стиль и законный статус. Оно не посягало на заповеди Божии. Это значит, что храмовое и религиозное искусство имело право на развитие в древности и, тем более, в христианскую эпоху.
Самые ранние образцы христианской живописи относятся ко П-Ш вв». Это росписи стен в римских катакомбах — подземных лабиринтах, где находились древнейшие христианские захоронения. Основная часть этих фресок создана еще в Ш веке… Потаенные, созданные в период жестоких гонений на христианские общины, многие образцы этого искусства исполнены экзальтации. Однако это не трагическая напряженность их языческих современников, а экстаз веры неотступной и сильной, несмотря на преследования. Молодое христианское искусство обладало страстным пафосом, но не имело еще твердой программы, как иконографической, так и стилистической [1] Культура Византии IV века — первая половина VII века, отв.ред. З.В.Удальцова; изд. Наука, М., 1984, стр. 547.
.
Вместе с иносказательностью в катакомбах формируется «прообразная» символика — предсказание явлений и событий Нового завета в Ветхом, которая будет широко использоваться и развиваться в искусстве на протяжение всего средневековья. Так пророк Даниил во рвы львином, по Божественной воле не тронутый хищниками, является прообразом Христа, Его искупительной жертвы и вознесения. На это же указывает ветхозаветная история Ионы, проглоченного китом и чудесно спасенного из утробы морского гиганта. Кроме подобных сюжетных композиций в катакомбах появляется множество отдельных изображений, носящих характер атрибута, знака — иногда емкого символа» [2] Там же, стр. 548.
.
«Рыба (особенно излюбленное изображение в раннехристианском искусстве) намекает на образ Христа, ибо греческое слово ИХТУС (рыба) представляет собой тайнопись: буквы его являются начальными в греческих словах «Иисус Христос Бога Сын Спаситель» [3] Там же, стр. 548.
.
«Павлин, тело которого по представлению древних было нетленно, означал Воскресение. Символов-знаков так много, что создается впечатление, будто весь природный мир, все обитающие в нем твари, растения и предметы обладают кроме своей наглядной и простой сущности еще и другой, незримой но угадываемой, осознаваемой, глубинной и наиболее важной» [4] Там же, стр. 548.
.
Трудный перелом в искусстве IV века
Картина меняется после того, как христианская церковь становится из гонимой сначала общепризнанной (с 313 года), а затем и государственной (к 380 году). В начале IV века, когда император Константин прекратил гонения на христианскую церковь, стали воздвигаться храмы и, естественно, возник вопрос, какого рода живопись должна их наполнять. Идти ли по пути уже созданного в катакомбах символизма, или, подражая монументальным языческим картинам и фрескам, начать изображать сцены Священного Писания, используя приемы, выработанные в античном искусстве, но не использовавшиеся ранее христианством. V строгих богословов возникает «страх перед остатками античного сенсуализма (чувственности), ужас «образопоклонства»… не стали бы яркие изображения библейских персонажей поводом для языческого обожествления живописи, ведь в церковь пришли огромные массы вчерашних язычников, у которых всегда перед глазами предстояли изображения их богов. Не будут ли они привносить свои старые обычаи поклоняться перед изображениями, как это они недавно делали в своих языческих храмах?
Читать дальше