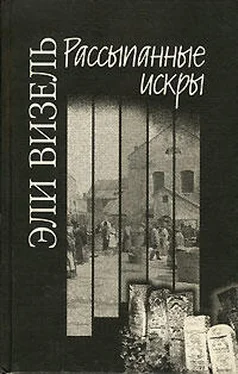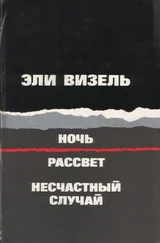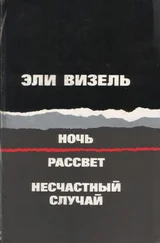Вернемся к тому, с чего мы начали, — к той роковой и горестной субботе, когда рабби, потеряв терпение, восстал против унизительности истории.
Почему он отшатнулся от человека? Что и кому хотел он сказать своим одиночеством и молчанием? От какого врага скрывался? И кого преследовал?
Во многих текстах говорится, что на определенном этапе отшельничество было ему навязано. Его изолировали? Возможно. Нужно было защитить и рабби, и хасидов, ибо он внушал ужас и сеял панику одним своим видом — обликом угрюмого подавленного рабби. Лучше уж ограничить их контакты.
Однако ученые, по-видимому, сходятся в том, что поначалу рабби сам избрал уединение. Он избегал людных сборищ, боясь среди них обезличиться. «Если приоткрыть тайну, она умаляется». Чтобы принять Закон, Моисею пришлось в одиночку взобраться на гору.
Богохульствовал ли Мендл из Коцка? Вряд ли это имеет значение. Ведь такие известные религиозные авторитеты, как рабби из Гера, Сохачевский Гаон, рабби из Ворке до конца сохранили ему преданность. Они несомненно верили, что, говоря с Богом по-своему, не так, как они, он тем не менее отстаивал их общую веру. Возможно, его разрыв с обществом объяснялся разочарованием иного свойства. Осознал ли он перемену, происшедшую в нем самом? Раньше он боялся, что никогда не найдет истину, теперь страшился, что уже нашел ее.
Итак, выхода не было. Человека всюду подстерегает страх. Что связывает человека с Богом и людей друг с другом? Страх. Людской страх Богу нужнее, чем любовь. И Мендл из Коцка протестует. «Если это и есть жизнь, то она мне не нужна; я пройду по ней посторонним. Если человек таков, стоит ли спасать его»?
Другое предположение. Предвидел ли он, что спустя сто лет после его кончины совсем иное пламя охватит континент и первыми жертвами окажутся евреи — покинутые Богом и человечеством? Не помышлял ли он с этой минуты сражаться с огнем посредством огня же — готовя нас к битве, добиваясь от нас силы и стойкости, способности противиться злу (вне зависимости от того, в какую форму оно облекается, пусть даже в форму приемлемой, благоустроенной участи), способности противиться даже Богу в надежде на Бога?
Так или иначе, благодаря Менахему-Мендлу из Коцка мы знаем, что человек может опьяняться Богом, может принести Ему в дар свою душу и разум. Что человек может впадать в безумие в Боге и для Бога.
Вот последние его слова: «Наконец-то я встречусь с ним лицом к лицу».
Нам неведомо — и никогда не откроется эта тайна: что звучало в этих словах — древняя ярость или обновленный вызов. В конечном итоге, Мендл из Коцка был обречен собеседовать с одним-единственным Существом. И история Коцка есть запись этого диалога — повесть, пылающая, как замок, как лесная чащоба. Но благодаря Коцку мы слышим голос и сознаем, что замок не пустует, что человеческая история обитаема; что в ней присутствует кто-то, взывающий к нам.
Завершив свое первое паломничество к истокам хасидского опыта, повествователь ощущает необходимость дать некоторые краткие разъяснения, представляющие собой лишь оправдание внутреннего смысла и цели его работы. Разумеется, в его цели не входило создание научного аналитического трактата. Точно так же не претендует он на лавры историка или философа. Единственная роль, устраивающая его, — это менее претенциозная и более скромная роль рассказчика; с предельной достоверностью передавая то, что ему удалось узнать, он услышанное излагает своими словами и со своей личностной интонацией, а иной раз вкладывает в рассказ свой пыл и свое удивление.
Итак, перед вами книга, которая могла быть составлена или скомпонована иначе: вместо одного Учителя нетрудно было бы рассказать о другом, ко всем приведенным легендам добавить еще несколько. Ибо по ходу лекций, прочитанных в разных городах Франции и США, рассказчик отбирал персонажей, следуя скорее воображению, нежели разумной схеме. Он мог бы сосредоточиться на теоретическом, социологическом или теологическом аспектах хасидизма. Вместо этого повествователя соблазнила возможность возродить некоторых героев, населявших мир его детства. Они по-прежнему пленяют и тревожат его воображение — пожалуй, даже сильнее, чем в прошлом. Ибо хасидизм, проповедовавший братство и примирение, стал алтарем, на котором был принесен в жертву целый народ. Иной раз я думаю, что мир не стоит этого Закона, этой любви, этого духа и этой песни — спутников человека на его скорбном пути. Мир не заслужил легенд, рассказанных ему хасидизмом, и налетевший ветер развеял их.
Читать дальше