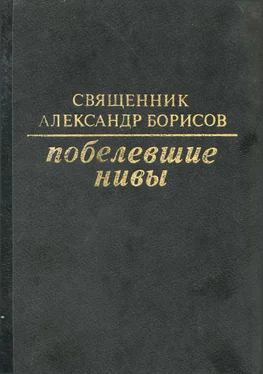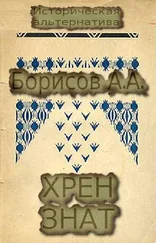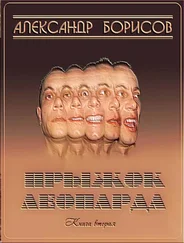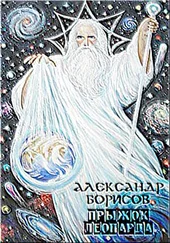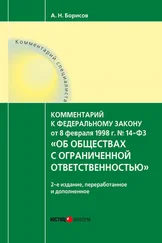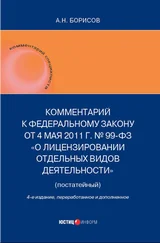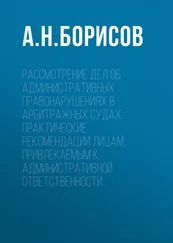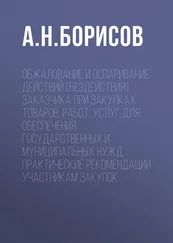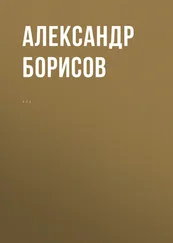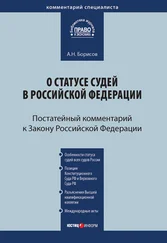Но речь не об этом, а о том, как я пытался выяснить у этой бедной женщины, для чего она хочет крестить своего внука. «Чтобы был православный», — прозвучал твердый, даже вызывающий ответ. «Ну, а что, — продолжал допытываться я, — вы будете воспитывать его в православной вере, учить молитвам, читать ему Евангелие?» — «Да нет, что вы! Мы и сами–то этого не знаем. Да и потом, когда в школу пойдет, там ведь будет все другое. Так что — нет–нет! Вот покрестим, и хорошо!» — «Ну, а в чем же будет его православие, — не унимался я, — только в том, что он будет крещеный? Ведь без религиозного воспитания он не вырастет верующим!»
Разговор наш, естественно, зашел в тупик. Женщина продолжала настаивать, что надо покрестить, чтобы стал православным, а я тщетно пытался ее убедить, что одного крещения еще недостаточно.
Между прочим, родители, желавшие крестить своих детей, на вопрос «зачем?» давали самые неожиданные ответы: «чтобы был крещеный», «у меня есть крестные, вот и у сына будут», «а то бабушка сидеть с ребенком отказывается, — не буду, говорит, с вашим нехристем нянчиться», «чтобы по ночам не плакал», «чтобы не писался» (!).
Практически все утверждали, что воспитывать детей в вере не собираются. При этом, если разговор сложится доверительно, большинство, не называя это верой в Бога, все же признают, что «что–то есть». При этом обычно утверждают, что ребенок и без религиозного воспитания, когда вырастет, «сам разберется», во что ему верить. Очевидно, вера ребенка, когда он вырастет, также не поднимется выше родительского «что–то есть».
Само таинство крещения, в том виде, в каком оно и сейчас совершается в наших храмах, практически ничего к этой безотчетной вере не добавляет. Да это, пожалуй, и невозможно сделать, когда вокруг священника выстраиваются от 20 до 60 крестных с орущими младенцами на руках. Некоторые батюшки поначалу еще пытаются сказать краткое наставительное слово об ответственности крестных за возрастание ребенка в вере, но довольно скоро убеждаются в бесплодности этой затеи. Сами крестные, как правило, пребывают в полном неведении о том, что такое христианство, и самое большее, на что они способны, — это, как говорится, с грехом пополам лоб перекрестить. Кроме того, все внимание поглощено тем, чтобы ребеночек поменьше кричал и вообще «поскорей бы!».
Среди общего шума тонут слова батюшки об отречении от сатаны, о вере в Троицу единосущную и нераздельную. Кто–то механически повторяет, кто–то нет. Символ Веры — то главное, во что верует, точнее, должен верить каждый христианин, и который по идее должен торжественно прочитываться самими крестными, но о котором они, на самом деле, едва ли слышали, — скороговоркой читается псаломщиком или какой–либо женщиной из прислуживающих в храме. Центральным моментом остается всегда погружение младенцев в воду купели, после которого они начинают дружно кричать, еще больше усиливая общее возбуждение. О том, что вслед за этим совершается еще и другое, не менее важное таинство Миропомазания — низведение Даров Святого Духа на новокрещеного христианина, — вообще мало кто подозревает. Как довольно точно сказал один священник, «нет в нашей Церкви ничего более соблазнительного, чем наши православные крестины».
Самое печальное здесь еще и то, что нередко приходят креститься и взрослые люди: ребята перед армией, мужчины и женщины разных возрастов, чаще лет тридцати–сорока. «На глазок» можно сказать, что их число составляет что–нибудь около 10 процентов от всех крещаемых. Это совсем немало. Это было в начале 80–х годов. Сейчас ситуация изменилась, по большей части число крещаемых взрослых такое же или даже больше, чем младенцев. И, конечно, за этим всегда стоит что–то более глубокое по сравнению с решением крестить младенцев. И вот здесь крайне огорчительное несоответствие между настроением взрослого человека, решившегося на столь серьезный шаг, и тем, как протекают крестины во многих наших храмах — вместе с младенцами, очень часто даже без какой–либо, хотя бы краткой, предварительной беседы со священником. Несоответствие еще и в том, что значительная часть самого чинопослеаования крещения ориентирована именно на крещение взрослого человека, сознательно отрекающегося от служения злу и избирающего служение Христу, между тем, практика проведение крестин ориентирована на крещение бессознательных младенцев. Ясно, что крещение взрослых следовало бы проводить отдельно, предваряя его беседой, наставлением. Но это как–то не принято и целиком зависит от энтузиазма священника. В итоге праздник вступления в завет со Христом, вступления в новую жизнь стирается, тускнеет. Один мой знакомый, крестившийся в 40 лет в такой вот обстановке, вскоре после этого с горечью признавался мне: «Даже не знаю, крещен я теперь или еще нет».
Читать дальше