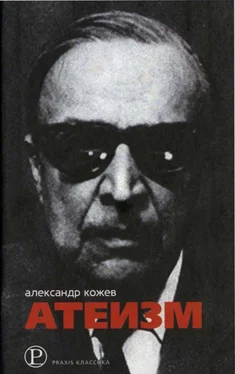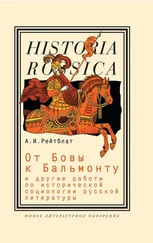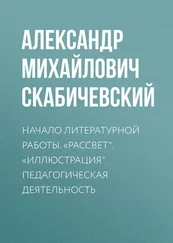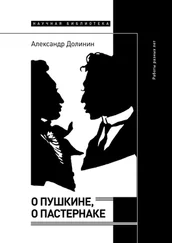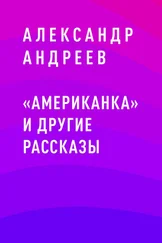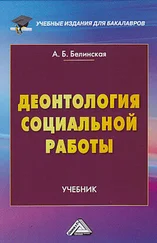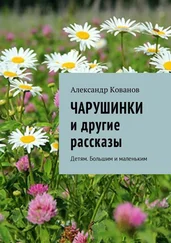Хотя курс Кожева получил название «Введение в чтение Гегеля», его подход к гегелевской философии не является ни ортодоксально — гегельянским, ни, тем более, историко — философским. Конечно, он прояснил некоторые темные места «Феноменологии духа», указал на иные скрытые ранее от интерпретаторов темы (скажем, влияние Гоббса на Гегеля); он пользовался терминологией Гегеля, но развитая им концепция радикально отличается и от панлогизма Гегеля, и от всех неогегельянских учений XX столетия. Эти отличия хорошо видны по публикуемому ниже отрывку из «Очерка феноменологии права» — отличия как в понимании природы человека, так и в философии истории. Даже если брать не всю систему Гегеля, а только его «Феноменологию духа», диалектика господина и раба занимает в ней сравнительно скромное место, а над сферой объективного духа возвышается мир абсолютного духа. Для Кожева все сводится к миру человеческой истории, начинающейся с «борьбы за признание», в которой победители делаются господами, а побежденные, под страхом смерти, соглашаются на рабскую долю. Вся дальнейшая история есть хроника труда и борьбы, которая неизбежно придет к концу вместе с полным контролем над природой и прекращением схваток за ресурсы, жизненные шансы, господство одних над другими. История осмысленна только как тотальность, которая имеет начало и конец. Все абсолюты содержатся в истории и принадлежат свободному человеку, но свобода его есть свобода отрицания и самоотрицания — выбора, в том числе и выбора жизни или смерти в борьбе. Эта интерпретация Гегеля — радикально атеистична, но атеизм Кожева является именно а — теизмом, диалектически снимающим всю истину христианства, которое уничтожило всех языческих богов, а затем неизбежно пришло к саморастворению в историческом становлении, каковое и зафиксировал Гегель.
Когда вышло «Введение в чтение Гегеля», целый ряд критиков указывали на то, что Кожев не столько интерпретирует Гегеля, сколько излагает гегелевским языком собственную доктрину. Кожев согласился с самым проницательным из критиков, марксистом вьетнамского происхождения Тран Дук Тхао, поблагодарил его в письме, указав на то, что главное различие с Гегелем заключается в замене панлогизма на онтологический дуализм. «Диалектический дуализм», в отличие от дуализма Декарта, ведет не к деизму, но к атеизму. «Диалектика природы» отвергается, диалектично (то есть временно) только бытие человека; появление человека ничем не детерминировано. В природе нет такой цели — породить разумное существо (это был бы теизм или пантеизм). Природа вневременна (как и у Гегеля), человеческое бытие есть время («временность»), а тем самым становление, отрицание, свобода. Философия Кожева — радикальный атеизм и историцизм, поскольку свободная экзистенция не соотносится с каким бы то ни было трансцендентным началом; человек творит себя самого в истории. Но творит он себя, обладая материальным телом, будучи «существом вида homo sapiens», которое представляет собой субстрат и потенцию — в разных обществах актуализация ее ведет к появлению совершенно различных существ. Почти все содержание человеческой жизни является результатом гуманизации животной природы. Специфически человеческими являются борьба и труд; слово и мысль (логос) развиваются в совместной трудовой деятельности — любое произведение труда (артефакт) есть реализованный концепт. Все остальное в человеке (включая эмоции) есть результат очеловечения животного начала. Скажем, сексуальная жизнь человека со всеми сопутствующими чувствами есть итог очеловечения посредством «табу»: пара животных превращается в семью, появляется эмоциональная связь, именуемая любовью, поэтические творения по ее поводу и т. д. Сама семья становится институтом очеловечения, воспитания, передачи навыков, но это — результат социальной жизни.
Публикуемый ниже отрывок из труда Кожева «Очерк феноменологии права» представляет собой набросок его антропологии на основе той интерпретации гегелевской «диалектики господина и раба», которую он развил в курсе «Введение в чтение Гегеля». Написан этот «Очерк» в 600 страниц был очень быстро, судя по всему, за лето 1943 года в деревне под Марселем. Ни предварительных набросков, ни приличной библиотеки не было: книга лишена какого бы то ни было научного аппарата, все ссылки приводятся по памяти, да и их очень мало. Кожев предается «чистому» философствованию, дедуктивно выводя правовые явления из нескольких общих посылок. Кожев в это время принимал активное участие в Сопротивлении, но обстоятельства такого рода сказались разве что на частом обращении к темам Борьбы и Риска, которые создают человека. В «Очерке» получили развитие некоторые тезисы «Введения»: обратившись к философии права, он неизбежно затрагивает широкую область социальных явлений, значительно подробнее, чем в курсе лекций, рассматривает эволюцию различных политических институтов.
Читать дальше