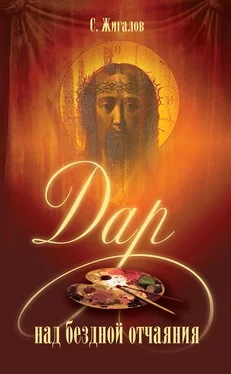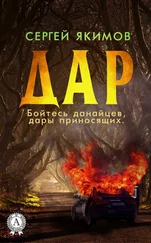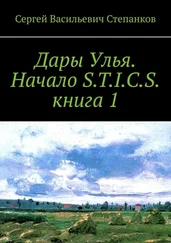Распутин одобрил: «Гнилушка этот князь. Влез ко мне в доверие. Пожертвование детскому приюту сделал… А душа гнилым пороком попорчена. Вот только что узнал – князь этот, Андроников, подкупал царских курьеров, развозивших указы о назначениях директоров департаментов, министров. И рассылал этим лицам наперёд поздравления. Весу себе прибавлял. И моим знакомством кичится. Заявится ещё раз, выгоню в тычки…».
После этого случая Григорий заторопился было в Селезнёвку, но простудился и слёг. Открылось двустороннее воспаление лёгких. Мучил кашель. День ото дня делалось всё хуже. В глазах всё дрожало, зыбилось, уплывало. То метался в жару, мокрый, как из бани, то стучал зубами от озноба. Стёпка в испуге сваливал на него пальто и шубы. Сам спал на полу около его кровати. Стоило Грише заворочаться или охнуть, подхватывался, зажигал свет, склонялся над больным. День на третий, ослушавшись Журавина никому ничего не говорить, сбегал к Распутину. Григорий Ефимович, бросив все дела, явился тем же часом. Долго сидел у изголовья, прикладывал ладонь к горячему мокрому лбу больного.
– Горе на земле, Гриша, – радость на небе, – тихо и проникновенно говорил он. – За что радость на небе? За скорби и молитвы… И за болезнь молись, родный мой. Страданье – с Богом беседа. Скорби ведут к истинной любви. Болеешь – значит не оставляет тебя Господь своею милостью. Ослабнет тело, укрепишься духом…
Голос Распутина будто относило ветром, ладонь его разрасталась, оборачивалась ладьёй, и Гриша уплывал в сон. Из всех этих высказываний, будто из прядей, сплеталась значимая для всей его будущей жизни мысль, радовала.
К ночи жар опять усиливался. Лицо лизали багровые языки пламени, прячась от них, Гриша утыкался лбом в подушку. Пламя перекидывалось на всё тело, жгло… Из огня вдруг вываливалась толпа мужиков с кольями и вилами. Пегая Борода хлестал Григория по щекам. На четвереньках, по-звериному, гонялся за цыганёнком, валил наземь, грыз ему голову…
Брёл навстречу распухший, сизый, с кровяными глазами пьяный Филяка. По голове его, по плечам метались, голохвостые огненные зверьки.
Волок в тёмные заросли голое женское тело со вздувшимся животом купец Зарубин. Оглядывался, закапывал его в палую листву, паутиной блестели на бороде слюни…
Похожее на вепря чудовище с чёрной гривой кралось со спины к лысоватому человеку в золочёном мундире. Григорий узнал в чудовище Карова-Квашнина. Ещё шаг-другой, и он бросится, утопит клыки в золочёном мундире.
Гриша закричал во сне, чтобы тот, в мундире, обернулся…
Стёпка, получивший указание: «если закричу, сразу толкай», будил. Испив воды, Григорий долго лежал с открытыми глазами, раздавленный виденьями. «Ладно бы во сне, наяву в миру вершится хаос, людскими поступками правит зверь, – думал он. – И когда зверь каждого человека сливается в общего зверя, как тогда на Ходынке, он пожирает самих людей: ту старуху, мужика в новых лаптях… Стремится к хаосу, кровавой смуте… И всё для плоти, пленённой грехом, убивающей, жрущей домашних животных, зверей, птиц… Услаждающий себя страстями человек обращается в их раба. Кто может противостоять звериному царству? Что сделать, чтобы сломить господство зверя и освободить человека?».
И вдруг, как зримый ответ на страшный сон, в памяти воссияла икона «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь». Григорий вспомнил её так явственно, будто увидел перед собой. На заднем её плане во всю ширину доски возносится тёмно-синими звёздными куполами к самому престолу Всевышнего храм. На переднем же «сердце милующее» – Божья Матерь с предвечным Младенцем.
Радость твари небесной изображалась ангельским собором в виде многоцветной гирлянды над головой Пречистой. Снизу к Ней устремлялись со всех сторон фигуры святых, пророков, апостолов… Здесь же и сопричастные общей радости животные, у подножья храма райская растительность…
Григорий вспомнил и те мистические, удивившие его чувства, порождённые иконой. Чудный, полный любви взгляд Пречистой, под чьим покровом собралась в гармонии вся Вселенная, радовал душу, притягивал. И в тоже время икона как бы отталкивала. Тогда он ушёл, потрясённый красотой и смелой прозорливостью замысла. И только теперь, после множества душевных мук и страха, что Господь лишит его Своей благодати, измаянный, высветленный болезнью, он ясно понимал, что та старинная икона приняла его, заговорила с ним и разрешила терзавший его душу вопрос…
Читать дальше