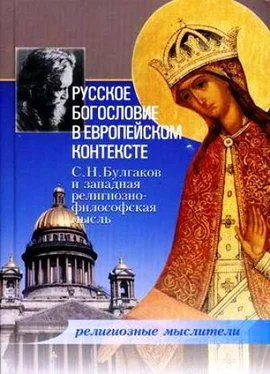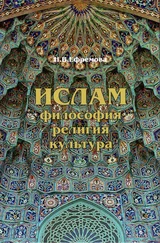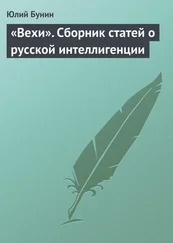Свобода у Булгакова, как и у Барта, представляет собой в конечном счете не отрицательную размытость апофатизма, но положительное утверждение о самобытности существа (лат. aseitas от a se – от себя, «от-себя-бытие»), или способности действовать от самого себя (самопричинность) [198], и для Бога это означает действовать исходя из Своей природы как любви. Данная идея – это, по сути своей, творческое переосмысление традиционного представления о непреложной неизбежности , но оно не выдерживает критики не только потому, что у Булгакова ставится акцент больше на необходимости, чем на свободе, так как Бог пойман в ловушку обязательности быть мировым принципом по самой Своей онтологической структуре, а не по Своей жизни, избирающей быть ради мира во Христе (несмотря на булгаковские рассуждения о Софии как actuspurissimus). Но – и этой последней критикой мы завершим анализ, проведенный в этом разделе, – данная идея неудовлетворительна еще и потому, что представляет свободную благодать Божью в Иисусе Христе всего лишь послесловием, простым расширением Бога как Абсолютно-Относительного, предопределенным в кенотическом бытии Софии еще прежде веков.
Часть проблемы с системой Булгакова – и здесь мы должны следовать Барту – в том, что у него Бог-Любовь является таковым именно как Абсолют, а не в Своей свободной жизни любви, которая тождественна выбору Иисуса Христа быть Агнцем, закланным от основания мира. Однако Булгаков понимает воплощение как предопределенное, и в этом они едины с Бартом, но только потому, что оно повторяет в конечном мире отношения Логоса к Софии как Богочеловечеству [199]. По Булгакову, грехопадение не было предопределено, поскольку сотворенная свобода допускала любой набор возможностей, только одной из которых было грехопадение, хотя тварная человеческая изменчивость, основанная на небытии, и делала этот выбор наиболее вероятным [200]. Тем не менее Бог в Своем предвидении знал, что человек падет, и послал Сына Своего принять плоть. Булгаков считает вопрос о воплощении Логоса в случае, если бы грехопадение не произошло, во-первых, нереальным вариантом (casus irrealis ), а во-вторых, неподобающим Богу, потому что в этом случае Его свободное волеизъявление ставилось бы в зависимость от грехопадения. Хотя Булгаков и соглашается с православной традицией в одном, что боговоплощение было вызвано немедленной нуждой в искуплении человека, его более важной предрешенной причиной, к которой мы и были предопределены, было желание Бога воссоединиться со Своим творением: обожить его [201]. Однако Булгаков рассматривает обожение как преодоление тварности, и это, похоже, подразумевает, что сама наша человечность, поскольку она не есть проявление Софии и потому изменчива, несовершенна и основана на небытии, должна быть поглощена божественной жизнью [202]. Далее следует признать, что понимание Булгаковым обожения – это просто разновидность его детерминизма любви, Божий план быть всем во всем, описанный Булгаковым как «софийный детерминизм» [203], который Христос просто привел в действие, когда принял плоть; это онтологический закон, обусловленный самой структурой Божьей и вписанный в творение: что мир должен стать Софией. И, поистине, его софиология, где две природы Логоса – Божественная София и Тварная София, последняя из которых в своем образе отмечена чертами Богочеловечества и потому дает творению софийную способность к бесконечному, – такая его софиология делает невозможным никакое отклонение с этого пути монизма любви [204]. Поскольку мы предопределены к славе во Христе, это толкование обожения – минус двухсофийная христология – могло бы рассматриваться как чисто позитивное и вполне творческое переформулирование Халкедона, в чем и состояло намерение Булгакова. Но, к сожалению, такой софийный детерминизм творения зеркально отражает Божий собственный божественный детерминизм и лишь демонстрирует в финале неудачу всей попытки Булгакова начать не с Христа распятого, но с Бога-Любви как Абсолютно-Относительного [205].
Часть III и Заключение. Булгаков и Барт: синтез идей
Я достаточно подробно представил взгляды Барта и Булгакова на проблему божественной свободы и необходимости любви, но остается предложить краткий синтез их позиций. Барт, – как я показал, – пошел недостаточно далеко в последовательном укоренении всего своего богословия, включая доктрины Бога и творения, в доктрине избрания. Булгаков, напротив, попался в ловушку той самой проблемы, которой Барт стремился избежать, то есть он превратил природу Бога как любви в мировой принцип. У Барта Logos asarkos, словно призрак, преследует богословие и вызывает вопрос, действительно ли мы имеем подлинное единение во Христе. У Булгакова Бог сковывается Своей собственной природой как свободной, абсолютной жертвенной любовью. Остается только наметить некоторые предварительные пути совместного размышления этих двух мыслителей над темами свободы, необходимости и любви.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу