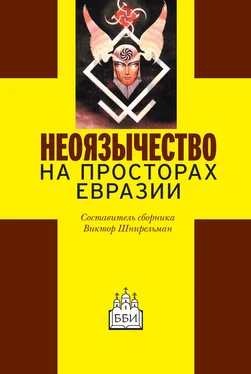В этой разобщенности заключается слабость, но, возможно, одновременно и сила диевтуров. Идеи, посеянные еще в 1920-х гг., по сей день теплятся в латышском обществе. Они не исчезнут и в будущем, но, очевидно, видоизменятся. Отдельные диевтуры – например, Юлий Брач – еще мечтают об объединении всех балтийских народов в этнос «аэстиев»: «Молодая Латвия, смотри на нацию аэстиев – там пруссы, литовцы, все свои!» [211]. Большинство последователей этого течения не интересуется иными культурами, кроме латышской. Некоторые отказывают и литовской культуре в «чистоте» сохранения «балтийского духа».
Современные диевтуры Латвии не добиваются цели придания диевтурибе статуса государственной религии. Правда, Рамантс Янсонс заметил, что «вообще-то это было бы неплохо». Но как можно придать государственный статус религии, которую исповедуют 500 человек из 2,5 миллионов населения Латвии? Диевтуры это понимают. Их сегодняшняя задача – «латышская Латвия». Р. Янсонс подводит итог: «Часть диевтуров хотели сделать диевтурибу политической партией. Я всегда считал и считаю, что она и так есть настоящая политика. Я буду нести духовный свет, сколько хватит моих сил».
Конечно, иногда поражает уверенность диевтуров в собственной правоте при нередко встречающемся невежестве в вопросах истории и культуры. Диевтуру в голову не приходит, что восхваляемая и культивируемая им традиция хорового пения возникла в Латвии под влиянием церковных хоров лютеранских общин XVIII–XIX вв., впервые в северной Видземе, в городах Лимбажи, Мазсалаца, Руйена, Страупе, Вецсалаца [212]. Кокле – сольный инструмент, так что идея создания ансамбля исполнителей на кокле могла родиться только у человека, имеющего представление о симфонической музыке. Наконец, многие собрания диевтуров («восхваление», «доклад») очень напоминают баптистские и другие протестантские собрания. В частности, чрезвычайно сильны у них элементы морализаторства и личного размышления о смысле веры.
В заключение отметим, что диевтуриба как идея гораздо шире и глубже, нежели это может показаться на первый взгляд. Не случайно и в довоенной Латвии, и теперь ее идеи в той или иной степени исповедовали и исповедуют многие поэты, писатели, художники, инженеры. Таким образом, саму диевтурибу можно понимать, по словам латышского философа Роберта Мука, как «брастынизм» (от имени основателя – Э. Брастыньша) и как слой размышлений и представлений, широко распространенных в латышском обществе и связанных с осознанием своей этнокультурной идентичности. Сюда же входят идеи существования национальной латышской религии.
Неоязычество становится характерным признаком нашего времени [213]. Как и романтизм, оно частично является попыткой устранить дисбаланс западной психики, оживить религиозные переживания, открыть внутренний мир, мистерию и божественную любовь. Используя элементы традиционных культур, его последователи строят свои здания по собственному образу и подобию, прямо или косвенно, или даже на словах отвергая это, но впитывают разный этнокультурный опыт.
Нередко (как мы увидели это на латышском материале) именно в таких движениях чрезвычайно отчетливо проявляются национальные идеи и зарождаются истоки теорий национализма. В большинстве случаев в национальных движениях ощущаются культовые элементы. Подъем национального самосознания, начавший проявляться особенно ярко в ХVIII-ХIХ вв., был тесно связан с упадком религиозности. Национальные идеи, а позднее и национализм, начинают ее как бы замещать, подтягивая постепенно также функции власти. Если первый этап в истории национальных движений Европы (согласно делению М. Гроха [214]) связан со сферой культуры, литературой, изучением фольклора, то в дальнейшем появляются активные сторонники национальной идеи, заметны первые признаки политической агитации. Следующая же стадия начинается тогда, когда националистические движения получают более-менее массовую поддержку в обществе.
Как же может быть оценена современная ситуация в Латвии? На мой взгляд, эта республика уже прошла все три описанные стадии развития национального движения. Для нее вполне характерно замечание Э. Хобсбаума, что сейчас «национализм уже не является глобальной перспективой развития или всеобщей политической программой… теперь он лишь дополнительный усложняющий фактор или катализатор для иного рода процессов» [215]. Конечно, это не означает, что в культурной жизни Латвии (как и многих других небольших стран мира) национальная история и культура не будут занимать весьма важного места, – их роль, вероятно, даже возрастет. Однако «национализм» больше не является термином, вполне адекватным для характеристики многих развивающихся здесь настроений, социально-культурных институтов и политических образований, которые в свое время осмысливались с его помощью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу