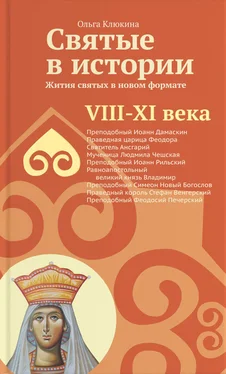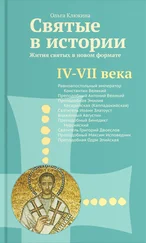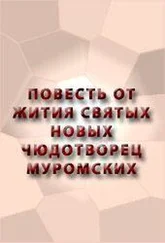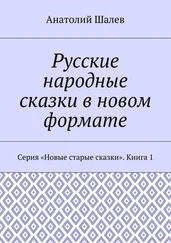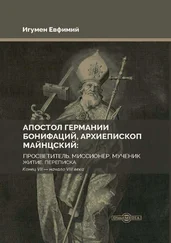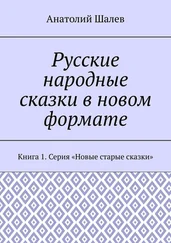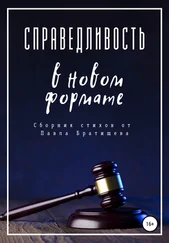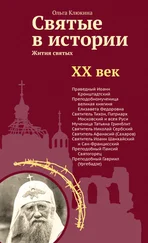Когда к Халкийским воротам Великого дворца явились солдаты из императорской гвардии и один из офицеров, приставив к стене лестницу, начал топором сбивать изображение Спасителя, поднялся сильный шум. Увидев, как офицер бьет топором по Лику Христа, молодая инокиня Феодосия из константинопольского монастыря Святой Анастасии подбежала к солдатам, стала их умолять не делать этого, после чего опрокинула лестницу.
Ее поддержали другие монахини, а также горожане из мирян. На площади завязалась драка, в результате которой были убиты и ранены несколько человек.
Как сообщает Продолжатель Феофана, волнения на площади происходили «в присутствии многих знатных мужей из Рима, Франции, из земли вандалов, из Мавритании, Готфии» и, конечно, были расценены как протест против указа императора и вообще императорской власти.
С этого дня принято отсчитывать растянувшуюся на сто с лишним лет борьбу почитателей икон с иконоборцами, во время которой редкие годы затишья сменялись периодами ожесточенного противоборства. По свидетельству современников, целые города и множество народа находились тогда в волнении из-за вопроса об иконах, так или иначе все христиане были вовлечены в этот важный спор.
Иконоборцы не сразу сформулировали богословские обоснования своим действиям, имея мощную поддержку в лице императорской власти. Зато в одном из палестинских монастырей нашелся человек, который сумел четко и аргументированно объяснить позицию защитников икон, – Иоанн Дамаскин.
Его «Три защитительных слова против порицающих святые иконы» были известны и в императорском дворце, и в отдаленных монастырях Византии. В народе эти сочинения переписывали и передавали друг другу в списках, использовали как улику, заучивали наизусть.
Иоанн Дамаскин объясняет, что он не мог смолчать, видя, как Церковь, словно корабль, попавший в бурю, со всех сторон захлестывают поднявшиеся волны иконоборческих споров.
«Поэтому, поражаемый невыносимым страхом, – я решил говорить, не ставя величия царей выше истины», – пишет он в своем «Первом защитительном слове…».
Разговор начинается с расхожего обвинения иконоборцев в том, что иконы якобы противоречат словам из Священного Писания о запрете изображать Бога.
«Если бы мы делали изображение невидимого Бога, то действительно погрешали бы, потому что невозможно, чтобы было изображено бестелесное, и не имеющее формы, и невидимое, и неописуемое», – поясняет Иоанн Дамаскин.
Но ведь христиане верят в Иисуса Христа, в Бога, воплотившегося в человеческом облике, – как же можно переносить ветхозаветный запрет на время Нового Завета?
Конечно, Иоанн тоже против обожествления изображений, но предлагает не путать его с достойным почитанием икон, которое пришло в церковную жизнь на основании апостольских преданий и постановлений.
Ведь «изображение не во всем бывает подобно первообразу», и у иконы существует свое назначение – она призвана помогать человеку подниматься до понимания духовных предметов.
«Изображение есть напоминание: и чем является книга для тех, которые помнят чтение и письмо, тем же для неграмотных служит изображение; и что для слуха – слово, это же для зрения – изображение, при помощи же ума мы вступаем в единение с ним», – с большим пониманием человеческой природы пишет Иоанн Дамаскин.
Ободряя, он призывает православных христиан: «Все рисуй: и словом, и красками, и в книгах, и на досках».
Писатель задается вполне логичным вопросом: почему гонениям вдруг стали подвергаться именно иконы? «Ведь христиане поклоняются Синайской горе, также Назарету, находящимся в Вифлееме яслям и вертепу, Святой Голгофе, древу Креста, гвоздям, губке, трости, священному и спасительному копью, одеянию, хитону, покрывалам, пеленам, Святому Гробу – источнику нашего воскресения, камню гроба… и много чему еще», – перечисляет Иоанн Дамаскин. И напоминает, что все эти христианские святыни – одновременно и символ, и «материальное вещество».
«Или устрани почитание и поклонение всему этому, или, повинуясь церковному преданию, допусти поклонение иконам, освящаемым именем Бога и друзей Божиих и по причине этого осеняемым благодатию Божественного Духа», – полемизирует он с иконоборцами.
Отрицающие иконы почему-то забыли: многие подвижники, почитаемые Церковью, имели у себя иконы. Из жития святого Василия Великого известно, что он молился и даже имел откровение перед иконой Богородицы, на которой был также начертан образ мученика Меркурия. А святой Иоанн Златоуст вообще не расставался с изображением апостола Павла, которого глубоко почитал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу