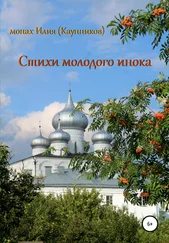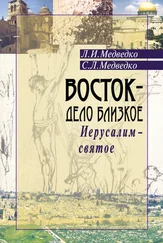Ныне турецкий военный госпиталь.
Это основывается на том предании православной Восточной Церкви, которое различает в евангельских сказаниях три вечери, три разные лица и три вида миропомазания, вопреки латинской церкви, которая смешивает времена, места, лица и обстоятельства. Первая по времени вечеря была в Иерусалиме в дому Симона Фарисея, о коей повествует евангелист Лука. Жена грешница, помазавшая на ней миром ноги Спасителя, была, по преданию, Мария Магдалина, из нее же изгна седмь бесов. Две другие вечери были в Вифании: одна прежде шести дней Пасхи в дому Лазаря, где помазала ноги Иисусу и отерла своими власами Мария, сестра его, в знак благодарности Ему за воскрешение брата, а другая тоже в Вифании за два дня до Пасхи, на коей некая жена грешница помазала главу Иисуса, возлежащего в дому Симона прокаженного (см. о сем Синаксарь Великой среды).
По палестинским преданиям место Иоакимова моления в пустыне находилось близ Иерихонской долины в Кутломийском ущелье; там была впоследствии воздвигнута иноческая обитель – лавра Георгия Хозевита (Хузива), в которой и поныне уцелели развалины церкви во имя святых Иоакима и Анны и та пещера, в которой первый уединился на молитву, где и сохранилось древнее изображение св. Иоакима в молитвенном положении; церковь вся покрыта фресками XII века, отлично сохранившимися; в усыпальнице много греческих надписей еще древнейшей эпохи.
Здесь кстати будет заметить, что это не единственный пример со стороны латинян перенесения преданий из одного места в другое (им принадлежащее). Так, по окончании последней войны, когда турецкое правительство подарило французскому древнюю церковь Свв. Иоакима и Анны, лжепатриарх Валерга, чая, что она будет передана ему, горячо защищал древнее предание, что именно здесь родилась Матерь Божия; когда же убедился, что французское правительство вовсе не намерено уступить эту святыню ультрамонтанам, Валерга начал доказывать, что напрасно считают эту церковь местом рождения Божией Матери, а что честь эта должна «по его изысканиям» принадлежать Сефорису.
Сахаров И. П. Путешествия русских людей по Святой Земле. СПб., 1839. Ч. 1. С. 44, 45
См. в новом издании: Странствования Василия Григоровича-Барского по Святым местам Востока. М., 2004. Ч. 1. С. 326.
Мелетий, иеромонах. Путешествие в Иерусалим Саровския общежительныя пустыни иеромонаха Мелетия в 1793 и 1794 году. М., 1798. С. 291
Там же. С. 91, 92
Древние русские наши паломники также ничего не упоминают об этих деревьях.
См. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Кн. 6. Гл. 6
Самые древние предания вспоминают об этом следе, и что б ни говорили рационалисты, он буквально подтверждает Псалмопевца, что народы будут поклоняться на место, идеже стоясте нозе Его (Пс 131, 7).
Соответственно сему продолжение Кедрского потока до впадения в Мертвое море называется у греков «Пирнос потамос» (огненная река), а у Арабов – «Уади-ель-нур» (поток огненный).
Гора Соблазна, смежная с Елеоном, называется так потому, что здесь Соломон воздвигнул капища идолам: Сидона – Астарте, Аммонитов – Молоху.
Вход этот называется царским согласно с пророчествами и Евангелием, где грядущий в Иерусалим Иисус Христос называется Царем: «се Царь твой грядет к тебе кроток» (Зах 9, 9; Мф 21, 5).
Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелиста Матфея. М., 1839. Ч. 3. С. 377.
Один из современников великих палестинских подвижников св. Саввы, Феодосия Киновиарха, Иоанна Молчальника и Кириака Отшельника, грузинский подвижник V века Давид Гареджийский, родом сириец. После многих подвигов пришло ему на мысль исполнить давнее желание своего сердца – прежде нежели водвориться в небесном Иерусалиме, посетить земной. Взяв страннический посох, он пошел на родину своего Господа и Владыки. Но когда уже достиг он желанной цели, когда взошел на Поклонную гору, с которой открылся ему в пустынном величии Сятой Град, внезапный ужас объял св. старца и глубокое раздумье проникло в смиренную душу: как дерзнет он грешными стопами попирать следы Богочеловека! И что же? блаженный старец остановился и, пройдя столь долгий путь, не смел довершить несколько шагов! Учеников своих, как более себя достойных, отпустил он поклониться святыне, умоляя их вознести теплые молитвы и за грешного отца их над гробом Искупителя; а сам, простерши к небу руки и помолившись издали, в виду храма Святого Гроба, взял себе в благословение только три камушка земли обетованной, оросил их слезами и пошел в обратный, дальний свой путь. Но Господь не восхотел утаить от мира такой глубины смирения своего угодника. Блаженному Илии Патриарху Иерусалимскому, является во сне Ангел и говорит: пошли в погоню за старцем, идущим по большой дороге в Сирию; он одет в рубище и у него в страннической суме лежат три камня; он унес с собою всю благодать святой земли; и одного камня с него довольно в благословение, два же пусть возвратит в Иерусалим; старец сей избранник Божий, авва Давид Гареджийский. Каково же было смирение и молитва сего аввы, когда три только камня, поднятые им с Земли Святой, увлекали с собою всю ее благодать, и в какое время? когда в ее бесчисленных пустынях процветали такие великие аввы, как Савва Освященный, духовный друг его Феодосий киновиарх, Иоанн Сихаст (молчальник) и Кириак отшельник, и только что смежил очи великий Евфимий, ибо это было пятое самое цветущее столетие иноческой жизни в Палестине. Повиновался словам Ангела изумленный патриарх и послал в погоню за странником; повиновался ему и любитель послушания Давид и возвратил два камня, не постигая сам цены своего благодатного смирения. Но единственный камень, принесенный им в свою пустынь и доселе хранящийся в оной на его гробе, получил от него благодатную силу исцелений, не оскудевающую, доколе не оскудеет вера притекающих к молитве св. аввы (См. Муравьев А. Н. Грузия и Армения. СПб., 1848. Ч. 1. С. 36–99).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
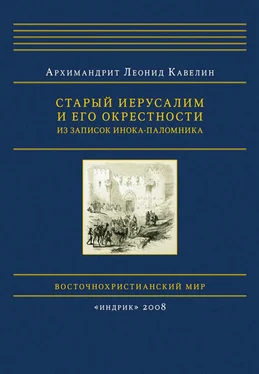




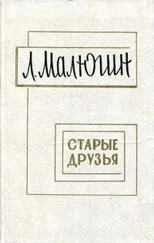
![Николай Васильев - Драгомирье и его окрестности [СИ]](/books/430131/nikolaj-vasilev-dragomire-i-ego-okrestnosti-si-thumb.webp)
![Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]](/books/438497/aleksandr-ovcharenko-v-krugu-leonida-leonova-iz-zapisok-1968-1988-h-godov-calibre-thumb.webp)