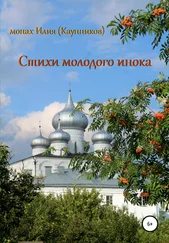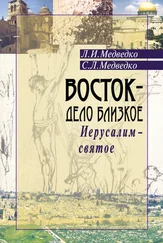В четверг после Часов (обедницы) я ходил по потоку (юдоли Плачевной), осматривая снизу зияющие на недосягаемой высоте древние пещеры, из которых более известны: пещера аммы Софий, матери преподобного Саввы, с церковкою, на стенах которой еще видны следы фресок; церковка эта обращена окнами на юдоль Плачевную (к востоку), а позади ее небольшая келья, служившая безвыходным жилищем уединившейся здесь подвижницы; 2) пещера Иоанна Молчальника, преподобного Ксенофонта и детей его: Аркадия и Иоанна; 3) пещера преподобного Саввы – основателя лавры и множество других неизвестных, ибо сотни иноков обитали в этой юдоли в цветущие времена пустыни Святого Града. У устья юдоли Плачевной раскинуло на весну свои шатры одно из колен бедуинов племени Мар-Саба (саввинских); мы зашли к ним в гости; они угощали нас кофеем, который тут же при нас был сжарен, столчен и всыпан в кофейник (по требованию их этикета вся эта операция должна происходить в присутствии гостя) и лепешками (опресноками), испеченными в золе; мы, отдарив их за это несколькими монетами, расстались дружелюбно и возвратились в монастырь; в этой прогулке сопровождал нас иеро Харитон. В пятницу сподобил меня Господь по исповеди у старца причаститься (в алтаре) Святых Таин Тела и Крови Христовой, и после ранней трапезы, о которой хлопотал сам старец (принеся вдобавок к ней икры и вина из своего вифлеемского виноградника) мы, поблагодарив его и братию и простившись с гостеприимною обителью, возвратились в Святой Град.
Поездка в Назарет, на Тивериадское озеро и Фавор
Путь от Иерусалима в Яффу. – В гостях у купца Халиби. – Пароход «Италия». – От Кайфы до Назарета. – Источник Пресвятой Девы. – Дорога к Тивериадскому озеру. – Канна Галилейская. – Место умножения хлебов. – Тивериада. – Тивериадское озеро. – Путь на Фавор. – Вершина Фавора. – Возвращение в Яффу и Святой Град.
15 октября 1858 года в среду в 8 часов утра выехал я из Иерусалима для посещения Назарета, Тивериадского озера и Фавора. Спутниками моими на этот раз были: ярославский помещик Н. Н. Карцев, курский помещик А. А. Вощинин, отставной штаб-лекарь Ф. К. Маторный (черниговский уроженец), купеческий приказчик из Москвы – одесский мещанин Максим, один астраханский крестьянин и драгоман-грек. Было жарко, как у нас в июле месяце; мы спешили на ночлег в Рамлю (древнюю Аримафею); через три часа пути остановились отдохнуть в Абугоше, близ источника; напоили усталых коней, осмотрели развалины древней церкви, на горнем месте которой еще видны следы изображения Матери Божией, хорошо уцелевшие. По преданию, церковь эта построена в память явления здесь Господа нашего Иисуса Христа на пути ученикам Своим Луке и Клеопе, – словом, это место древнего Еммауса, где Христос «познася има в преломлении хлеба». В 6 часов вечера мы прибыли на ночлег в Рамлю, догнавши на дороге игумена тамошнего греческого монастыря, который возвращался домой из Иерусалима с сестрою и племянником, молодым человеком в живописном костюме греческих островитян – куртке, расшитой золотом, и фустанелле. Ночевали в греческом монастыре. Выезжая из Рамли поутру на рассвете, мы зашли в здешнюю православную церковь, где хранится часть вдовичьей колонны, чудесно приплывшей по водам в Яффу для церкви великомученика Георгия в Лидде (которая отстоит отсюда на час пути). На дороге в Рамлю мы отдыхали еще несколько минут на развалинах селения Латрун, – родине благоразумного разбойника. По выезде из ущелий Иудейских гор начинающихся вскоре за селениями Абугош, тянется обширная и ровная долина, которая до чрезвычайности напоминает поля Малороссии, так что, подъезжая к Рамле в сумерки, забываешься и думаешь – вот въедешь в какой-нибудь Нежин или Батурин; очарование полное, – верхи минаретов издали кажутся колокольнями, и только подъехав ближе и рассмотрев пальмы, видишь, что находишься на Востоке.
Когда мы приехали в Рамлю, застали здесь ректора Халкинского богословского греческого училища епископа Типальдоса. Он по приглашению Иерусалимского Патриарха гостил целое лето в Иерусалиме, занимаясь устройством здешнего богословского училища, основанного Патриархом Кириллом в Крестном монастыре (за четверть часа ходу от Иерусалима). Старец епископ считается одним из ученейших людей в греческом духовенстве, но к сожалению известен в то же время, как ненавистник славян. Выехав с ночлега в Рамле в семь часов, мы в десятом часу благополучно приехали в Яффу, где и остановились в здешнем греческом монастыре; он построен на высоте берега над самым морем и отсюда открывается превосходный вид на Яффскую гавань, одну из самых опаснейших во всей Сирии, ибо весь берег усеян подводными камнями и гряда их тянется вдоль гавани, выказывая свои черные вершины; с шумом и пеною перекатываются через них волны, и при сильном ветре нельзя безопасно ни выйти из гавани, ни попасть в нее с моря, ибо для подхода к берегу есть только несколько узких проходов между скалами, а сообщение с стоящими на открытом море на якорях судами производится посредством больших лодок (магон). Обедали в этот день (16 октября, четверг) с епископом Типальдосом, который остановился здесь отдохнуть в ожидании австрийского парохода. Вечером выходили из города прогуляться по морскому берегу, близ развалившегося карантина, в котором, как повествуют, герой прошедшего времени (Наполеон I) приказал отравить несколько тысяч своих зачумленных солдат, чтобы они не достались в плен неприятелю, – неужели и здесь цель оправдывает средство? В Яффе, несмотря на близость моря, было днем до крайности душно и вообще жарче, чем в Иерусалиме, и только вечером можно вздохнуть свободнее. Набравши на берегу моря разноцветных ракушек, мы поспешили в город из опасения, что скоро запрут городские ворота.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
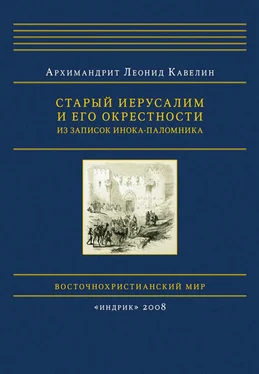




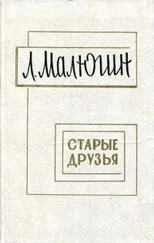
![Николай Васильев - Драгомирье и его окрестности [СИ]](/books/430131/nikolaj-vasilev-dragomire-i-ego-okrestnosti-si-thumb.webp)
![Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]](/books/438497/aleksandr-ovcharenko-v-krugu-leonida-leonova-iz-zapisok-1968-1988-h-godov-calibre-thumb.webp)