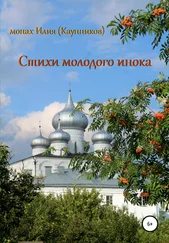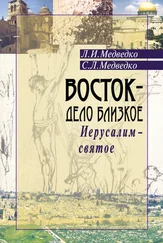Вифлеемиты известны своею отважностью, и потому окрестные бедуины племени тамаритов находятся с ними в союзе, а жители других селений боятся вступать с ними в явную ссору или ищут их союза в случае ссоры между собою. Довольно взглянуть на их прекрасные и смелые фигуры, дабы убедиться, что они не легко снесут утеснение и обиду. В прежние времена они не раз мужественно сопротивлялись хищности дамасских пашей и иногда поголовно выступали в поход. Монастырь и храм вифлеемский служили им крепостью. Множество подобных случаев рассказывают жители и путешественники. Ныне правители Иерусалима стараются быть в мире с вифлеемитами, а в случае замешательства в окрестностях Святого Града спешат занять военным постоем храм и монастырь, как это было в 1859 году, по поводу возмущения союзных вифлеемитам тамаритов, о чем скажем ниже. Можно себе представить положение бедных иноков вифлеемских монастырей во время этих замешательств; им тогда часто случалось платить то той, то другой стороне, не говоря уже о личных обидах и опасностях. Сами вифлеемиты нередко утесняли монастыри своим домогательством, и надобно было много терпения и любви к святому месту, чтобы выдержать столько преследований, утеснений, которыми наполнена история вифлеемских обителей. И теперь жители, хотя при большем влиянии на Святые места европейских консулов не дерзают пускаться на явные насилия, не перестают однако пускаться на разные изобретения, чтобы как-нибудь выманить деньги от иноков. Смотря на их нескромное поведение в храме, где они свободно разговаривают и смеются между собою, можно бы счесть их за безбожников, но это будет вовсе не справедливо. Никогда вифлеемиты не ограбили храма, никогда не прибили ни одного монаха, хотя считали нипочем стращать их всякими способами для того, чтобы вынудить денежную помощь. Не раз раскладывались костры и острились мечи, чтобы сжечь начальника того или другого монастыря или отрубить ему голову, но всегда эти угрозы оканчивались ничем. На востоке вообще в храмах Божиих, когда нет в них богослужения, жители ведут себя как дома, ничем не стесняясь; но надобно видеть их во время молитвы; тогда самое выражение на их лицах святого восторга не может не удивить пришельца. В мирное время вифлеемиты всегда относятся к монахам своего исповедания с большим почтением и любовью, составляют как бы одну с ними семью и видят в них своих отцов в благодетелей. Но жаль, что несогласие между собою трех исповеданий всегда почти отражается и в населении соответственными чувствами неприязни и чаще из-за сущих безделиц.
Кроме пещеры Пастырей и пещеры Млечной, окрестности Вифлеема имеют много других священных памятников. Так, в стороне от Иерусалимской дороги близ города есть систерна, которую жители называют Давидовой, потому что Давид не стал пить из нее воды. Во время войны с филистимлянами с горстью храбрых он скрылся в пещере Одоллам. Жар был несносный. Царь объявил, что его мучает жажда и он охотно бы напился воды из вифлеемской систерны; но Вифлеем был занят неприятелем. Несмотря на это трое из его храбрых воинов пробрались чрез лагерь филистимлян и с опасностью жизни принесли царю воды, которой желал он. «Да помилует меня Бог от того, чтобы я стал утолять жажду кровью этих храбрых», – сказал Давид, – и пожертвовал воду Богу заступнику «возлия ю Господу». (1 Пар 11, 17–19).
Кроме ближних окрестностей, каковы: Млечная пещера и долина Пастырей, большинству русских поклонников удается еще посетить Соломонов пруд. Проводниками в этой прогулке обыкновенно бывает кто-либо из вифлеемских арабов по рекомендации игумена. Дорога идет на юг. Проезжая Вифлеем, увидите развалины домов вифлеемских турков, разрушенные Ибрагимом пашой. Далее видны старые посеченные маслины. Сады христиан, жителей Вифлеема, сохранивших спокойствие, остались целы; среди их высокие башни украшают общий вид; теперь они служат для складу овощей или для летнего житья, а прежде служили и обороною против бедуинов, ибо в башни проникнуть нельзя, и с них меткими выстрелами можно помешать разграблению садов. Далее дорога к Соломоновым прудам идет по окраине горы, следуя направлению славного Соломонова водопровода. Соломон ли, как говорит весьма похожее на правду предание, или кто другой устроил этот водопровод, но во всяком случае в этой работе очевидны знаки еврейской древности и особенного искусства. Это не римские водопроводы, которые шли в прямой линии чрез горы и долины высокими аркадами стен и оттого подлежали порче, не могши притом укрыться от глаз неприятелей во время нападений. Напротив, водопровод Соломона – совершенно закрытый и нелегко может быть испорчен. В твердых скалах, составляющих эту окрестность, устроена труба или канал; он иссечен в камне, а сверху покрыт огромными камнями, которые со внутренней своей стороны обделаны желобом, но снаружи вовсе не отесаны и ничем не разнятся от остальных скал и так соединены между собою цементом, что не видно вовсе следа спайки, и вы никогда бы не догадались, что тут идет водопровод, если бы довольно часто оставляемые продушины для сохранения свежести воды не указывали на этот мудрый и огромный труд. И какого большого знания этого искусства надобно было для того, чтоб без аркад и срезывания скал можно было провести воду в Иерусалим! Хотя от «источника запечатленного», откуда течет вода, по прямой линии до Иерусалима не более 14 верст, однако водопровод вьется на протяжении почти 60 верст, ибо, так как для него нужен постепенный склон, держится боков скал, обходя долины и высокие горные вершины. Вода, по рассказам жителей Иерусалима, стекает и до сих пор в огромные подземелья Омаровой мечети, а сверх того и пруд Иезекииля, всегда полный воды, свидетельствует, что водопровод действует исправно. Во всю дорогу, где только встречался нам этот памятник Соломоновой мудрости, вода была совершенно чистая и свежая.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
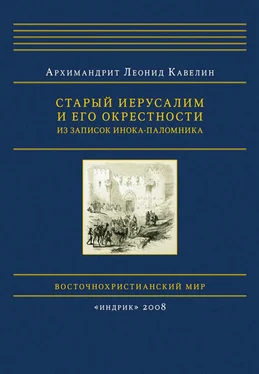




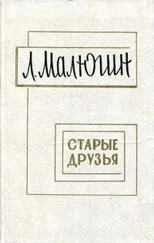
![Николай Васильев - Драгомирье и его окрестности [СИ]](/books/430131/nikolaj-vasilev-dragomire-i-ego-okrestnosti-si-thumb.webp)
![Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]](/books/438497/aleksandr-ovcharenko-v-krugu-leonida-leonova-iz-zapisok-1968-1988-h-godov-calibre-thumb.webp)